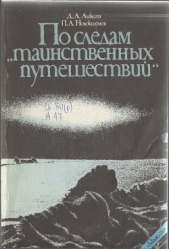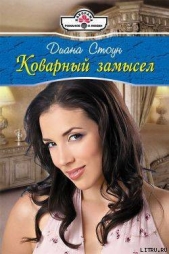Путешествия по следам родни (СИ)

Путешествия по следам родни (СИ) читать книгу онлайн
Книга очерков "ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ" была закончена в 1998 году. Это 20 очерков путешествий по Северо-Западу и Северу Европейской части России. Рассматриваются отношения "человек - род". Это книга "В поисках утраченного места", если определить ее суть, обратившись к знаменитой прустовской эпопее.Ощутимы реалии тех лет, много "черного юмора" и экзистенциальных положений. Некоторые очерки опубликованы в интернет-изданиях
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Свободный человек может любить такую судьбу?
Тем не менее средь поля я размышлял недолго – по насыпному валу прошел вдоль пруда (слева открылся извив какой-то большой реки), по крутой каменистой улице поднялся вверх, подошел к застекленной веранде очень новенькой, но скромной дачи, постучал, попросил напиться. Неожиданно приветливая русская женщина позвала меня пить чай, а когда я отказался, вынесла кружку молока и три сочных бутерброда с вареной колбасой. Я даже не особенно отказывался – настолько запросто мне их вручили, лишь смутился очень. На крыльцо доверчиво вышел симпатичный пожилой человек и рассказал, как ехать. В ответ я так же доверчиво сообщил, что путешествую и в их лесничество проплутал до темноты. Сколько можно было судить по краткой беседе, это был либо простой и очень честный рабочий, либо художник на покое. Последовав его указаниям, на ходу употребляя бутерброд, я вышел к шоссе, но там стало понятно, что домой меня не тянет. А, была не была, заночую где-нибудь здесь. Я вернулся в деревню, спустился той же дорогой и пошел по тропе вдоль реки, которую за неподвижностью принял сперва за извилистый пруд.
По берегу росли редкие старые березы, но хвороста было так мало, что мой костер продержался только минут сорок: хватило, чтобы вскипятить чайник и при его свете уложить в рюкзак нехитрые припасы. Я избегал всю окрестность в поисках хоть каких-нибудь прутиков, сжег все пакеты и банки, оставленные рыбаками, обломал все нижние сучья, до которых дотянулся, но костер все-таки потух. Хоть я и изображал из себя ковбоя, но спать на голой земле, завернувшись в плед, не решился, потому что завтра следовало явиться на улицах Москвы. Знал, что если в волосах у меня будет солома и пепел костра, а плащ позеленеет от травы, не исключено, что первый же милиционер на Павелецком вокзале попросит документы, несмотря на интеллигентную внешность и совсем не испитой вид. Но спать все же хотелось. Вздрагивая от холода и нервного возбуждения, совсем не согретый чаем, я двинулся наобум в поисках подходящего ночлега. Все-таки это была река, сорная волжская река в траве, кувшинках и бензиновых разводьях. Оказывается, было всего только десять часов вечера, потому что там, где светилось городское зарево, вдруг вспыхнули огни праздничного орудийного салюта. От нечего делать я им отсюда любовался, хотя пошлостью от этих ярких букетов так и разило, как от румян городской девушки с цыплячьей кожей: напрасно пытался фейерверкер выдать анемию и бледную немочь за буйство жизни. Высоко взлетавшие шутихи лопались и рассыпались, отсвет радужных огней ложился на сонную воду, в которой под тонкой пленкой нефти что-то еще пыталось булькать: какие-то земноводные.
Рощица осталась позади, я вышел к глухому забору, окружавшему дачный поселок. Аккуратно обошел его кругом, будя собак, также аккуратно пробовал открыть висячие замки на решетках своим квартирным ключом, но нигде не нашел никакой лазейки в добросовестных кованых изделиях. Дачи выглядели мило, как городок гномов из детской книжки, но запустить камнем хотя бы в одну из них пришло на ум много позже, когда я уже брел лесом, впотьмах обдираясь о сучья: конструктивные решения часто возникают априори. Следующим было некое садовое товарищество, совсем не огороженное; оно называлось «Авангард», «Политехник» или что-то в этом роде: черная табличка, прибитая к сосне, надпись белыми буквами. Уют и здесь был везде под замком. Под окнами одной из дач стоял синий колесный трактор «Беларусь». Я с трудом забрался в кабину, но там была такая теснота и холод от некрашеной стальной обшивки, что показалось, будто тебя выставили с голой задницей в лунную полночь в поле на трескучий мороз. Как они ездят в этих колымагах, где все трясется и дребезжит?
Неподалеку стоял небольшой, объемом с мою городскую квартиру, рубленый садовый домик с окном и дверью, врезанными заподлицо, вдоль стены были сложены доски. «Опять повезло, - подумал я, укладывая их поровнее вдоль теневой стороны. – Если когда-нибудь разбогатею, вся мебель у меня будет обязательно деревянная, а стулья обязательно без обивки и подушек, с прямыми спинками. Дерево – единственный материал, с которым приятно соприкасаться такому неженке, как я». Наверху вместо звезд на этот раз висел скат шиферной крыши, но зато в соседнем огороде хорошо пошумливала под ночным ветром осыпавшаяся лиственница. Под досками первое время кто-то шебуршил и возился, и я думал: только бы не змея, им бы пора уже в спячку. Ветер сюда не задувал, но его движения чувствовались сразу за углом сруба. Я повернулся набок, прижавшись спиной к шероховатой стене, и старался расслабиться, несмотря на ощутимую возню этой крысы или змеи и сухое шелестенье хвойных игол наверху. Раскладная диван-кровать, которую я каждый вечер застилал во всю ее двуспальную длину крахмальной простыней, пуховая подушка с полосатой наволочкой и ватное одеяло в пододеяльнике были просто патрицианской роскошью по сравнению с этой постелью, но зато я не знал, что ждет меня завтра.
НАХАБИНО – ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА
1
В те годы, когда я злился, очень важничал и бросал вызов правительству, мне стали назначать цену. Почему-то женщины и, чаще всего, замужние. И вместо чаемого общественного признания своих заслуг я получил море женской любви, куда тотчас стекала моя сперва, не успев даже хорошенько созреть. Я хотя женщин я на дух в те годы не переносил, они почему-то окружали меня все плотнее.
Вот в эти-то дни недовольства своим общественным статусом я получил неожиданное приглашение от одной красивой женщины вступить с ней в фиктивный брак. Получалась вообще странная вещь: я жаждал Славы, а мне упорно предлагали Бабу. Женщина мне очень понравилась, я встретился с ней, узнал, что за прописку на моей жилплощади мне предлагают тысячу долларов и, хотя был свободен, понял, что это идет вразрез с моими попытками продать квартиру и эмигрировать. В минуты опасности и душевного напряжения я бываю чрезмерно осторожен. Осторожность подвела и на сей раз: я не осмелился сразу принять такое решение судьбы, продать независимость хотя бы и за значительную для меня цену, а стал обиняками выведывать, что за птица – эта барышня. Она оказалась законной женой одного знакомого писателя, прописанной в Подмосковье и, к тому же, с ребенком. Со злобой и негодованием я понял, что, живя внутри женского организма страны под названием Россия, трудно быть мужчиной, что каждое твое простое стремление подвергается коррекции и что мужик с ребенком на руках, установленный в Берлине в Трептов-парке, - это и есть, похоже, наш отечественный символ. Очень хороший антипод со статуей Свободы. И меч у него в руках внушает уважение.
Чтобы обдумать свою очень сложную житейскую ситуацию, как-то раз солнечным апрельским днем я сел на электричку, отправлявшуюся в рижском направлении, с намерением выйти, где понравится. В борениях страстей и соблазнов я инстинктивно чувствовал, что есть состояния и бытийные постулаты куда заманчивее, чем чужая жена, замыслившая уйти от мужа, которого считает неудачником, к другому, который, по совету подруг, кажется ей более перспективным. Рельсы на довольно длинном перегоне пролегали средь маслянисто коричневых стволов и ядовито-зеленых крон сосен, мне этот бор поглянулся, и в Нахабино я вышел на платформу. Название кстати сассоциировалось с «нахальством бабы»; был очень солнечный день, мусорные свалки вдоль насыпи воняли, в грязных лужах плавали оттаявшие с зимы бутылки и пивные банки, за худым тыном в приземистых убогих хижинах во дворах сушились разноцветные тряпки и, по случаю выходных, шатались сильно выпившие рабочие, но из лесу за последней сильно покосившейся изгородью виднелось пространство песочно-желтой прошлогодней травы, сквозь которую уже кое-где зеленела свежая, а из лесу, из его многоколонного зала соблазнительно тянуло ветром, настоянным на лесных талых водах и ожившей смоле хвойных деревьев. До чего гадок пригород, прости Господи, по сравнению с архангельской тайгой, сколько грязи обнаруживается в такой вот солнечный день, сколько пустых пакетов, линючих газет, банок, сколько черной копоти на коре деревьев, сколько зловония в воздухе, и все-таки закраины луж так же похрустывают ледком, на пыльных ветках так же набухают почки, в низинах почти так же стоит черная болотистая вода, которой некуда впитываться, а из нее торчат чахлые кусты и осока. Я был непредусмотрительно обут в легкие ботинки, но в лесу еще было бело от снега, и по подтаявшим тропам, покрытым голубоватой ледяной коркой, можно было пройти не запачкавшись. В глубине леса талые ручьи, пузырящиеся под ледовым хрупким панцирем, были так прозрачны, что я даже рискнул напиться, зачерпнув горстью. И едва я почувствовал запах талой мягкой и безвкусной воды, моя спесь и чужие амбиции, на меня направленные, заботы и предположения, мечты о славе и недовольство собой, - всё осталось там, в городе, а здесь, на крупитчатом рассыпчатом снежку уже становилось просто и правильно, как, наверно, просто и правильно чувствовали себя сейчас первые бутоны медуницы и лесные мыши, тощие после зимовки, норы которых подтапливает вода. Конечно, я симпатизировал этой женщине, и она казалась и, по-видимому, была так беззащитна и простодушна (в отличие от еврейки), что я уже воображал себя в роли покровителя и великодушного заступника, счастливчика и в некотором смысле пройдохи, этакого Михаила Булгакова, похитившего свою Елену, но еще глубже и полнее, чем счастливое разрешение семейных и социальных проблем, я понимал поэзию этого яркого, брызжущего солнцем дня и очень голубого неба и душу и настроения своих предков, которые почему-то упорно предпочитали социальному преуспеянию вот это простое здоровье, крестьянское, а может быть, даже звериное. И я чувствовал и слышал их призыв к возвращению в природную область самочувствия, прочь из области гордыни и спеси. Когда на обсохшей и уже обогретой солнцем поляне, откуда в просвет елок виднелось полотно железной дороги и пробегавшие электрички, я из бересты и сухих прутьев разжег костер и в сыровато-промозглом воздухе, какой стоит внутри глубокого колодца, запахло едким дымком, показалось на минуту, что я неким образом соскользнул в первобытность: прозрачный огонь трепетал, а я, рабочий-лесозаготовитель, готовился сушить возле него портянки, поджидая свою бригаду. Было непоправимое ощущение, что я соскользнул, сопровождаемый какой-то необъяснимой радостью бытия, с верхней жердочки некой иерархии на нижнюю, как канарейка в клетке, и это нисхождение произошло по моей охоте. Быть попроще оказывалось быть счастливее, хотя это опасно приближало меня к незавидному статусу родителей, здоровых и мужественных людей, валивших лес в любую погоду. Я живо представил, сидя в своей пятиметровой экологической нише в лесу под Нахабино, как здорово, как радостно было, должно быть, в настоящем северном лесу в такой вот апрельский солнечный денек, как рассаживалась вокруг костра бригада веселых работяг, скидывавших ради теплого дня свои промасленные спецовки, робы, пуловеры, разматывавших онучи, протягивавших к огню дырявые рабочие варежки и холщовые рукавицы. От мокрой одежды шел пар, открывались термосы с затхлым переслащенным чаем, который пах пробкой, доставались бутерброды, завернутые в жирную оберточную бумагу, а когда кто-нибудь подбрасывал в огонь еловых свежих лап, в небо устремлялся столб густого, пепельно-фиолетового дыма. Когда я открывал свою банку шпрот, возникло странное ощущение, что вот сейчас веселой гурьбой, с матюгами, хохотом и взвизгами баб они вывалятся из-за соседних пышных зеленых елок, с насмешками и подтруниванием обсядут меня вокруг костра, и мы славно пообедаем. Но в ту минуту и в те годы я был до такой степени один, несмотря на утомительные амуры, что такая демократическая перспектива даже в виде вероятности и мысле-образа меня сильно напугала и опять поставила перед дилеммой: либо быть сильным, либо простым и счастливым. Поверху проехал мотовоз, потом по боковой тропе вдоль рельсов, сильно вихляясь и с трудом доставая педали, - мальчишка на велосипеде, а я все глубже и беспокойнее погружался в счастливую природную стихию, которая оказалась мне генетически ближе и роднее, чем дела суетных горожан. Я не был очень уж против той роскошной и богатой жизни с палаццо, Монте-Карло, дельфинариями и особняками, которую без устали расхваливали через рекламу и телевидение, но для меня она оказывалась не только не желанна, но и прямо губительна. Я очень любил все американское и канадское и, пожалуй, французское, но чувствовал. Что это немного не то американское, которое мне нужно, а то, что впрямь соответствует и принимается, сочится тонкой струйкой со страниц какого-нибудь Берроуза, Джеймса Кервуда или Томпсона. Все же остальное, - меня не проведешь, - навязывалось любящими комфорт и удобства женщинами и женоподобными их приспешниками. Калькулятор – не мой инструмент. Поэтому там, где живут, прозябают, произрастают, часами бездумно сидят, глядя в огонь, где в вершинах елей хмуро шумит верховой ветер: -у-у-у-у, -ж-ж-ж-ж, среди перемежающихся впечатлений открытого безлюдного мира и пространства мне было очень хорошо и без красивых женщин. Усталый, утомленный, оголодавший охотник редко нуждается в женщинах, а помести его в городскую квартиру – и он изойдет похотью, потому что вожделение – это та же природная сила, не находящая прямого исхода. Город придуман, чтобы запирать силу. Город – это соковыжималка…