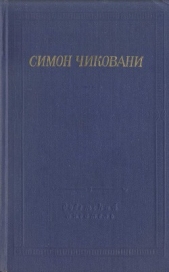Осталась она красотою, пускай убогой, приниженной,
Пусть грешницей, брошенной навзничь для
каждодневных мук,
С безжалостной откровенностью, с распахнутостью
бесстыжею,
Воспевшей нежность и ненависть беспутных своих
подруг.
Кто она? Серый воробышек, [77] тот, что на крышах Парижа
О крохах любви, а может, о хлебных крошках чирикает?
Я вижу ее над толпою, шальную, в кудряшках рыжих,
Я вижу ее — монтаньярку, бунтарку, актрису великую.
Я знаю, она не стреляла в убийцу с железным крестом,
Петеновские жандармы ее не хлестали хлыстом,
Она не кровавила руки, таская железный лом,
Чтоб воздвигать баррикады над Сеной, за каждым
мостом.
Я знаю, на гильотину, как мужественная Франс Блок,
Не шла она, оголяя шеи своей уголок,
И радиопередатчик не клала в солдатский мешок,
Но не отступила от Франции ни разу, ни на вершок.
Ведь ради нее сгорала Даниэль в тифозном жару,
И ради нее перед смертью Пери потянулся к перу.
Расстрелянные пролетарии ее заслоняли собой.
…С вершины собора певунья глядела на город свой
И горько рыдала вместе с химерами Нотр-Дам,
Когда по бульварам скорбным, по Елисейским полям,
Не тень гренадеров мертвых, а тень полумертвых полков
Плелась без надежд и оружия, без славы и даже без слов,
Поверив маршалам лживым, не отстояв свой кров.
Вернулись домой солдаты, опомниться не успев,
А сверху летел им вдогонку неумолимый напев,
В котором слышался вызов, звучал справедливый гнев.
Рыдающий женский голос, он в души тогда проник,
Его мы доселе слышим, укора и скорби крик,
Зов матерей Парижа, старцев, калек, сирот
В то лето сорокового, в тот вопиющий год.
Актерка — росток окраины, безвестная дочь Бельвиля,
Рожденная в желтой дымке уличного фонаря,
Она познала могущество, изведала и бессилье,
Заря полночного города, предутренняя заря.
Никогда я ее не видел, но чудится мне всё чаще
Облик той маленькой женщины с устами как рваная
рана.
Кем же ей быть без песни? Бездомной девкой, гулящей?
Кем же ей быть без Франции? Нищенкой, с горя пьяной?
Сквозь семь кругов преисподней пройдя, сквозь
парижское пекло,
Базарных фигляров наследница, дитя лихого райка,
Возникла она внезапно среди разора и пепла,
Звучна и нежна, как флейта, как стебель гвоздики,
тонка.
Как стебель гвоздики, как тельце колибри, как венчик
бокала,
Взметнулась она стремительно, на сцене вдруг засверкала.
В ней столько таилось пыла, такая в ней страсть гудела,
Что боли ей было мало, что ей не хватало тела.
И вот она снова и снова в фонарном кругу лучится,
Из-за кулисы бархатной вышла и в зал глядит,
И падает свет прожектора на голые плечи певицы,
На резко загримированное, больное лицо Эдит.
Она распахнула руки, сеткою жил обвитые,
Трепещут ладони слабые, словно гвоздями пробитые;
Над оркестровой ямой встала она, как распятие,
Бездонны ее страдания, бессонны ее объятия.
Властные хрупкие руки судорожно распростерши,
Поет вещунья ночная, словно святая пророчица.
В роду ее не было славы слаще, чем эта, и горше.
Звенит последняя исповедь, и горечь в горле полощется.
И слезы сочатся черные, и сердце в мучениях корчится,
И всё в голове заморочилось! Чего шансонетке хочется?
О, как ненасытно мечтается,
О, сколько всего умещается
В душе вашей, бедная вестница
Ласки и человечности!
Вздымается над толпою, терниями увенчана,
К столбу световому прикованная, печально-прекрасная
женщина.
Вздымается над толпою отчаянная парижанка,
Над залом, где гость захмелевший исходит слезой
и слюною,
Растроганный тем, как всхлипывает расстроенная
шарманка,
Подстегнутый саксофонами и безутешной струною.
«Милорд, вы, кажется, плачете? Неужто всё еще
в моде я?
Милорд, я прошу вас, не надо! Я жалуюсь вовсе не вам.
Рукоплещите, топайте, подвывайте моей мелодии.
И — к черту! Падам, падам!..»