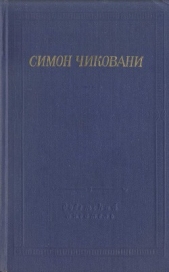Звонка, чиста, прозрачна, как волжский лед, зима.
Нет ни конца ни края. Недвижна и нема.
Бездонны, долги ночи, колючи, остры дни,
На глыбы ледяные расколоты они.
Сорок второй суровый. Саратовская даль.
Тревога, одиночество, надежда и печаль,
И только переливы, и только переход
Мелодии и скорби в предел покорных нот.
Куда несешь, мелодия, куда ведешь следы?
Бьешь волнами тревожными о берега беды.
Свиваешь в кольца омуты под корнем вербы той,
Что, вся в слезах, склонилась над бурною водой.
Ой, верба, твои листики резвы в воде, остры,
Как стрельчатые лодочки. Тревожны и быстры,
Плывут, летят, играя серебряной волной,
В притихшее пристанище, в приют печальный мой.
Ой, верба, ты задумчива над водами веков…
Что нашептал мой Тетерев, [78] что дал тебе мой кров?
Как ты смогла сквозь ярость — фронты, бои, пути —
Тот шепот, нежно молвленный, до слуха донести?!
Какая ж сила вызрела в напеве тихом том,
Что заглушила грохоты, огонь и рев фронтов?!
Ты, верба, верно, вспоена настоем вод живых,
И никому не вычерпать, не опоганить их.
О верба, песня, музыка! Вода реки родной,
Крепа меня в той горести, в тот год сорок второй,
Чтоб песню спел я новую, чтоб крик шел на ущерб,
Чтоб зазвучал над Волгою шум тетеревских верб.
…Как мирные посланцы родной моей земли,
Как гордости народной и силы патрули —
В ладу тройные — по трое — проходят голоса
В мир, где живет гармония — добро, любовь, краса.
Перевод М. Кондаковой
Багровый прах. Да призраки домов
Расколотых, слепых, осиротелых,
Где кровь, где ржавчина на плитах обгорелых.
Еще таился жар под мусором дворов,
Золы горячей подымая тучи.
Шарахаясь, когда кренилась вдруг стена,
Я обходил воронки, ямы, кучи.
Я молча шел в толпе. Стенала тишина.
Стоял сентябрь. Затихли все сирены.
Из синевы не били в нас грома.
Вопили только души и дома.
И жутко в тишине кренились стены.
На пепелищах двигалась зола,
На пустырях гуляли смерть и ветер.
И беззаботных я в толпе не встретил.
Беда терзала, тормошила, жгла.
Но по-иному складывались мысли.
Была иная цель и труд иной,
Хоть гул стоял за львовскою грядой
И страшно багровели воды Вислы.
Да, победили мы. Победу мы несли,
Уже суровым опытом богаты.
А в Неман струи красные текли,
И черный дым затягивал Карпаты.
Мы шли по Киеву, по скорбному пути,
В кирзе разбитой, в форме беспогонной,
Те и не те — с победою в груди
Толпой входили в зал белоколонный.
Что нас вело, бессонных работяг?
Возможность счастья? Забытье и грезы?
Вокруг одни развалины и слезы.
И каждый день — упрямый, трудный шаг…
Какие силы нас вести могли
В гармонию —
из хаоса и праха,
Из непомерных дел растерзанной земли,
Из долгого мучительного страха,
Из черноты, где бушевал пожар
И удушал кошмаром Бабий Яр?
Мы шли от свежих у Днепра могил.
И все-таки не только боль и прах —
Мы чуяли прилив каких-то новых сил,
Вид новых стен шаги приободрял,
И радовал металл приваренных стропил.
Маячил впереди огромный перевал.
Такими мы вошли в белоколонный зал,
Не ведая еще, чего хотим от зала.
Роняем по рядам обломки наших слов.
Мы в кресла втиснули свои тела устало,
Снимая тяжесть прожитых годов.
Похожи были мы и многолики.
Все — разных судеб, языков и душ.
Еще не время, мастера музыки,
Вам проиграть, а нам услышать туш!
Еще самих себя продумать нету мочи
И глянуть в даль грядущих светлых лет.
Нас душит горе, ненависть нас точит,
И отдыха нам не было и нет.
Еще не знаем, что нам делать в зале,
Что притемнен конвульсиями люстр.
Обшарпанный народ, как на вокзале,—
Тяжелый шепот пересохших уст.
И всё стихает вмиг, и вздох, и разговор.
Застыли скрипки, трубы и фаготы.
И небывало бледный дирижер
Идет, шатаясь, словно через годы.
Такой таится в музыке заряд,
Таким порывом в души нам дохнуло,
Как будто буря двери распахнула
В рассвет, минувший года три назад.
Колоннами подперли высь аккорды,
И по ступеням светлых пропилей
Взошел народ прекрасный,
Сильный,
Гордый,
Достойный славы и хвалы людей.
Зарозовела рань. Зазолотился полдень.
Голубизна легла на серебро озер.
Зазеленился вечер и наполнил
Игрою тонких туч и радостью простор.
Роскошный блеск вечернего светила.
Смиренный воздух. Мирный окоем.
И тень зари мечтательно уплыла
На волнах флейт заоблачным путем.
Плавно, медленно, плавно.
И только ласкалась задумчивая глубина,
И только лелеяла мир голубиная тишь,
Но где-то за горизонтом вдруг дробь барабана
слышна.
Бездумное буханье слушаешь ты и дрожишь.
Дробь! Еще раз дробь.
Еще раз вопль.
Еще раз зык.
Он жаждет простора. Звук страшно расширен.
Взвивается эхо: «Vorwärts!» Рать горлопанит:
«Sieg!
Erste Kolonne… Zweite Kolonne…
Dritte Kolonne marschieren…» [79]
Поступь чудовищ. Грохот убийц. Топот сапог.
Всё шире. Всё глубже. Всё ближе.
Бьет в землю. Бьет в степь. Бьет в порог.
Валит. Ревет.
Пастью пылающей лижет.
Плющат удары. Плещут пожары.
Стук. Гром. Крик.
Машин бронированных ромбы.
Сквозь небо проверчены бомбы.
Sieg? Sieg? Sieg?
Я, загнанный, стоял над желтопенным Доном.
Шум переправы. Сутолока. Разброд.
То желчь, то кровь мой заполняли рот.
Давился я то злобою, то стоном.
На рубеже судьбы я исстрадался так
И ненависть во мне росла такая,
Что лучше лечь с гранатою под танк,
Сухую землю эту обнимая…
Последний раз на небеса взглянуть.
А после — хруст, лохмотья мяса, муть…
Я не упал. Я брел. И я стоял на Волге,
Когда железный шторм ударил в Сталинград.
Казалось, упаду, прошьют меня осколки
И не услышу я, как громыхнет снаряд.
Я смерти не искал и не бежал от смерти.
Соседкою была она так много дней.
Вжимался я в песок — забыл, в каком кювете.
Распластывался я — не сосчитать траншей.
Долины Волги в шрамах, как ладонь.
Здесь суд и жизни грань. И нет пути назад.
Так стой же, Сталинград! Так бей же,
Сталинград!
Батарея, огонь! Батарея, огонь!
Удар за ударом. Сильней и сильней.
Погибнут еще миллионы людей.
Победа не близко. Стенанье и плач.
На штурм и на смерть призывает трубач.
Но словно светает — пожар над землей
Встает предрассветной зарей!..
И много страдальческих наших дорог
Сольются под аркой в победной дороге.
Ее неизбежность предчувствовать смог
Художник, от боли задумчиво строгий.
Дома Ленинграда. Раздерганы крыши.
Ночные дежурства — не спи, не зевай.
Летят зажигалки в чердачные ниши.
Клещами хватай и песком засыпай.
Пронзительный грохот и визг. Беготня.
Слепящие линзы разрезали даль.
А после — раздумья октябрьского дня —
В пустой аудитории. Ноты. Рояль.
И он — он, прищуриваясь близоруко,
Нервно подергивая очки.
Провидец — связует гармонией звуки,
Сплетает грядущей Победы венки.
Он слышит громовое эхо расплаты.
Великого слова он слышит взлет.
Не медлить. Изречь. И аккордов раскаты
Гремят! И великое слово живет.
Оно — в народе. Оно — в походе.
Оно — в неизбывной красе и свободе.
Оно — тут над нами. Над горестным людом,
Торжественно смолкнувшим и изможденным,
Явилось прекрасным, неслыханным чудом,
Рассветом над городом возрожденным.
Пусть стены чернеют зловещим нагаром,
Пусть крови затеки с лица мы не стерли.
Но верим, но знаем — не всуе, не даром
Кровавились, бились, боролись и мерли.
Измученный Киев в немыслимом ритме
Следы половодий кровавых стирает.
Вы нам рассказали, товарищ Дмитрий,
О том, что любой про себя повторяет.
Сквозь горе и прах прорастет животворность.
Седьмая симфония — боль и мажорность.
Высокая боль музыканта отважного,
Худого, усталого громовержца,
Объединила волнением каждого —
К горячему сердцу припаяно сердце.
О, музыки благословенной соборность!
1977
Перевод И. Шкляревского