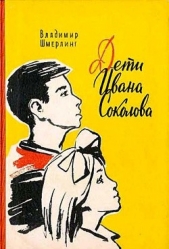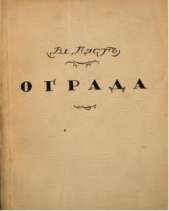…И трещина прошла
По государственной Библиотеке,
В чем Метрострой мгновенно обвинил,
От всей души инстанции минуя,
НИИ, где я не помню кем служил.
И, впрочем, прав наверно в чем-то был.
Там начались сплошные заседанья…
А трещина? А трещина росла,
И наконец, разваливая Зданье,
Она по сердцу моему прошла.
Мне кто-то крикнул: «Через час собранье,
Куда бежишь?»
Я отвечал: «Дела!»
Был летний день. Хладея постепенно,
Алел асфальт сиреневый у ног.
Казалось, на Ордынке даже стены
Прекрасно знали, как я одинок.
Ампирный, восемнадцатого века,
Три этажа, три эркера. Подъезд
Дорический. И — чудо этих мест —
Он пуст! (Ни огонька, ни человека).
…Был день.
Прекрасной дамы солнечная тень
Возникла предо мной. Остановилась.
Ошеломленно на меня взглянула
Иль на кого-то за моей спиной.
Взгляд отвела. И в тот подъезд шагнула.
Тень, мы знакомы разве?..
Что со мной?..
Мне померещились глаза совы…
…Какие-то военные машины
Летели мимо тротуара… Солнце
Бросало зайчики сквозь шум листвы,
Как будто прыгающие червонцы…
Небезопасны старые дома
Для впечатлительного человека.
Там всяких душ перебывала тьма
С начала восемнадцатого века.
В его на диво слаженный ампир
Вдышавшись, к счастью или же к несчастью,
Они остались здесь какой-то частью,
В нем сотворив особый дух и мир.
…Дверь проскрипела. Я вошел с оглядкой
(Дверь тяжело захлопнулась за мной).
Подъезд был пуст. Лежал узор цветной
На плитах пола солнечной накладкой.
Шла мраморная лестница изгибом
Справа налево — вверх — где, как балкон,
Коричневым фигурным парапетом
Висели антресоли, скрип тая.
Над антресолями и над подъездом
Висело небо, ангелы глядели
Вниз, на меня, томясь от паутины,
К ним подбиравшейся, от облаков,
Давно не белых…
Солнце сквозь витраж
Осколки радуги бросало на пол
(Дверь тяжело захлопнулась за мной!).
Я сделал шаг… И закружилась пыль.
И я ослеп от страшного удара.
Я долго поднимался… Я стоял
На двух ладонях и на двух коленках,
Мотая головой…
И вдруг такой
ромашкой, кашкой в ноздри мне дохнуло,
полынью и кузнечиком в ушах,
так вдруг зашлась всей степью синева,
что я вскочил, одернув гимнастерку,
потер затылок,
огляделся
и…
«Р-равняйсь!» — услышал…
Блекло-синий свод.
Мы, пленные, стараемся равняться,
Друг друга выпираючи вперед.
А рядом вишни, яблоневый сад,
Искусственный бассейн, флагшток, палатки…
«Р-равняйсь!» — как на линейке…
Здесь вчера
Был пионерский лагерь.
СТЫД. Жара.
И так по-свойски, буднично:
«Евреи
И коммунисты, шаг вперед».
И Додик,
Как кто-то рядом, сделал шаг. Вперед.
Тогда я тоже сделал шаг вперед.
«Ты коммунист?» — спросил ублюдок в черном,
Наверно, переводчик. Он, конечно,
Не немец был. Без нации, но — наци.
Я не был коммунистом. Я был другом.
И одноклассником.
Я руку положил
Давиду на плечо. И улыбнулся.
«Зачем ты вышел?» — он шепнул. «Молчи.
Так веселей!»
— «Встать на краю бассейна!»
И грянул залп…
И в уши, как в ночи,
Плеснули волны Волги или Рейна…
Небезопасны старые дома
Для впечатлительного человека.
Здесь всяких душ перебывала тьма
С начала восемнадцатого века.
В его на диво слаженный ампир
Вдышавшись, к счастью или же к несчастью,
Они остались здесь какой-то частью,
В нем сотворив особый дух и мир.
Мгновенья, что над веком верховодят,
Дни, от которых годы без ума,
Как бесенята, вас захороводят…
Небезопасны старые дома.
Я всплыл. И, уцепясь за край бетонный,
Увидел, что я здесь совсем один.
Перевалился и, вцепясь в траву,
Рванулся и пополз, хватая землю,
И оказался в комнате… Я полз
По запыленному паркету. Сердце
Подкатывало к горлу, пульс — к вискам.
В моих горстях еще была трава,
Она ромашкой пахла и землей,
Я долго пальцы разжимал и видел,
Как исчезали медленно травинки,
Как на ладонях таяла земля.
Я стиснул губы чистыми руками,
Потом лицом припал бессильно к полу.
Пол закружился.
В этот самый час
Прохожие беспечно проходили,
Ерошил ветерок листву, шуршали
Колеса по асфальту возле дома,
Где я и был и не был…
Дом стоял
Во временах и в неподвижной дате
(Лишь тополь тенью гладил по стене,
Зеленый, но такой же старый, кстати).
…Я встал с коленей и, держась за воздух,
Ступая тихо, подошел к окну.
Потряс его и распахнул. Сырой
Вдыхая ветер осени и снега.
Не удивляясь больше чудесам,
Предоставляемым мне этим домом,
Я любовался бедным и знакомым
Пейзажем, где плутал я по лесам,
Где в этот миг к любой его тропинке
Был близок легкий гул Большой Ордынки.
Мой век, тебе давно не по себе!
Зачем ты вел борьбу со мной в себе?
Мне все равно, где это совершалось —
В Москве или в Париже, или там,
Куда за океаном по пятам
Бегут, ко мне испытывая жалость.
Прощайте все! Мне некуда бежать.
Я остаюсь от холода дрожать.
Здесь я наедине с двадцатом веком.
Здесь он во всей открытости своей,
Такой, как есть, на родине моей,
Где каждый пятый — вор или калека.
Мне все равно, какое время суток.
Мне все равно, какое время дня.
Мне все равно, какое время ночи.
Я ухожу в знобящий промежуток,
Где ждут давно оболганные очи,
Все понимающие про меня…
Там, за рекой, где больше нет разлуки,
Где тень креста, хотя бы погощу.
С тяжелым вздохом подниму я руки
И с легким вздохом руки опущу.
Взойду по шатким, щелястым ступеням
На старый барский вымерший балкон,
Прислушиваясь к их дрожащим пеням
И к шелестам со всех родных сторон.
Пахнет снежком, и в желтом отдаленье
Проступит леса синяя стена…
В День Ангела слышней, чем в День Рожденья,
Все времена твои, все имена…
Там родина моя… которой люди
Еще не знают, хоть на ней живут.
Ведь я не рассказал еще о чуде,
Что сходит к нам, когда его не ждут.
Однажды на заре я вышел в поле,
Еще едва впиталась в землю кровь.
И защемило сердце, как от боли,
От радости, что есть еще любовь!..
Ведь родина не только эти дали
И эта высь, она ведь, между тем,
То место на планете,
где нас ждали,
Когда еще нас не было совсем.
Когда мы были только сочетаньем
Звезды и Праха, Крови и Мечты…
Потом мы станем чьим-то причитаньем
Иль немотой…
Россия, это ты…
Небезопасны старые дома,
Они молчат, как вечные тома.
Хочу от злой неутолимой жажды
Ступить в одну и ту же реку дважды.
И трижды. Невозможно? Пустяки!
Ведь только так и пишутся стихи.
Откуда этот колокольный звон?
Пространство голое —
со всех сторон…
Ни леса нет, ни церкви вдалеке.
Избушка… Дед, сидящий на пеньке…
Тень шумных листьев мечется у ног,
А древа нету…
«Что тебе, сынок?»
«Дед, что здесь было?»
«Здесь была Россия».
«Старик, ты спятил. Я же русский сам,
Я знаю, где она!»
«Она не там.
Россия там, где все уже скосили.
До зернышка повыбрали. Дотла
Спалили храмы. А колокола
Расплавили.
И только звон остался».
Окно захлопнулось. Звонок раздался…
Небезопасны старые дома.
Здесь на себе (как ни были б смиренны)
Вы постоянно чувствуете взгляд
Чей неизвестно. Знайте, эти стены
Не только слышат, но и говорят.
Дом может вам обычным показаться.
Но в час любой, как музыкою сфер,
В нем тишина полна импровизаций
На темы всех реалий и химер.
Они живут, как скрытые цитаты,
Как внутренние рифмы, в толще стен
И проступают в нынешние даты,
Но лишь при тех, кто жаждет перемен.
Пусть здравый смысл и опыт протестуют,
Но для живого сердца и ума
Небезопасны старые дома…
Особенно, когда они пустуют.
Я дверь открыл в соседнее пространство.
Там в окнах — сквозь осеннее убранство
Листвы — рябила гладь Невы иль Сены…
Вот-вот сказать хотели что-то стены…
Звонок интимно вроде б и условно
Два раза прозвенел с намеком, словно
Я дома был… Но странный
длился день…
Прекрасной дамы солнечная тень
Прошла и встала слева от проема
Дверного, за стеной: «В урочный час,
Мне кажется, я заманила вас.
Но вы мне так напомнили кого-то,
Кто вне учета для широких масс…
А там, в НИИ, без вас ломают копья,
Там и о вас хотят поднять вопрос…»
— «Я эту трещину в себе унес!»
— «Я знаю. Вы хотите, чтобы хлопья
Замельтешили, чтобы монастырь
Вас обступил. Ужель хотите в келью?»
— «Я посмотреть на вас хочу.
Вы где?..»
— «Зачем? Да и с какой, скажите, целью? —
Она ответила. — Я тут везде.
Глядите ж, снег! И все как в январе!
Вам нравится в Донском монастыре?
Я отпускаю вас…
Но вы вернетесь.
Не обошли вы стольких этажей!
Их там у нас побольше, чем снаружи.
Идите же, глотните этой стужи,
Не забывая наших витражей».
Я сделал шаг. И встал… Вороны с криком
Роняли рваный мокрый серый снег.
Ведь здесь (я поклонился двум гвоздикам)
Под камнем, в одиночестве великом —
Загадочный великий человек.
Могилы скоро будут, как сугробы,
Белым-белы, лишь черные на них
Ряды чугунных букв старинной пробы
Затяжелеют, как печальный стих.
Одни под снегом канут, как растаяв,
Но эти будут вечно — ЧААДАЕВ.
Я на скамейке погрузился в сон,
Успокоительный, как снегопад,
Но спать на кладбище еще живому
Опасно все же — кто-то рядом сел
И монотонно: «Голос, Логос, Голос», —
Забормотал. Я вскрикнул
и проснулся.
Свершалось то, чего я так боялся! —
Заволновались стены, это глина
Звала кирпич обратно; задрожали
На церкви кровля и решетки — это
Руда звала к себе свое железо.
Скамейка зашаталась.
Я проснулся.
Опять.
Снег с ветки уронив,
Сова взгляд отвела и косо полетела…
Метель повеяла о вечном свете
Отца и Сына и Святого Духа.
Но кто-то с кем-то вновь заговорил:
«Да, я согласен с вами, что не может
Быть воплощеньем алиби поэт,
Не соучастник он. Но совесть гложет
Его. А вас, по видимости, нет.
Грешно, явившись Сыном без Отца,
Мечом организовывать Второе
Пришествие — получим Страшный Суд
Без Судии!.. Без Бога, без предела…
Для всех!»
И снова: «Логос, Голос, Логос…»
«Кто здесь?» —
Я окончательно проснулся…
Шли от скамейки свежие следы
Двоих, по снегу, в сторону могил.
Их быстро-быстро хлопья заметали.
Шел крупный снег в Донском монастыре.
…Мысль о поэме, как дамоклов меч,
Висела надо мной четыре года.
Сидишь в гостях, бывало, глянешь вверх —
Висит.
А выпьешь —
Падает со свистом.
И я, глаза от ужаса смежив,
Сижу, не видя, и молчу, не слыша.
И мальчики кровавые в глазах.
Встаю.
«Куда ты?»
— «Я сейчас… Сейчас!»
И становлюсь дождем, туманом, снегом.
Я на земле. Но что мне делать с небом?
Троллейбусы, я спрашиваю вас!
(Меня в подъезд заталкивает ветер…)
Слетают снега маленькие крохи.
Снег ни при чем, дорога ни при чем…
Да это же поветрие эпохи —
Быть с алиби повсюду и во всем.
Стоят дома с отсутствующим видом.
С отсутствующим видом я иду.
Не бойся, город! Я тебя не выдам
Ни в этом, ни в двухтысячном году.
1987, 1995