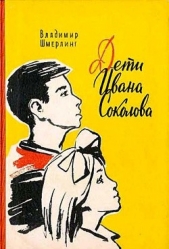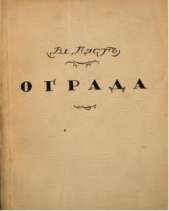В этот странный час на серой, пустой предутренней улице, где все что-то забыло, что-то важное, и теперь мучительно припоминает — карнизами, окнами, мостовой, ты должен помочь этой улице вспомнить, о чем она забыла. И в этом совместном с ней воспоминании чего-то забытого, важного и есть тот момент, когда зарождается стихотворение или поэма.
Мне нравятся книги, которые пахнут асфальтом и серым дождем городских площадей. Мне нравятся книги, в которых, как в лужах, отражаются старинные здания и фонари. Мне нравятся книги, в которых есть загибающийся в неизвестность переулок; в которых любовь появляется из-за угла и складывает мокрый зонтик. Мне нравятся книги, в которых во время ливня, как голуби, бьются белые струи под водосточной трубой над серым, истершимся до кирпича асфальтом. Мне нравятся книги, в которых есть каменные ворота в неизвестный двор, где можно сесть на лавочку и слушать музыку из распахнутого окна. Музыку просто так… А бледный клен шумит над головой и роняет тебе на колени мокрые, мягкие листья.
И еле доносится городской гул.
Каждый поэт в душе сюрреалист. Даже Гомер. Даже Пушкин (сон Татьяны, скачущий памятник в «Медном всаднике» и т. д.). Другое дело, как он с ирреальностью поступает. Без ирреальности, иррациональности невозможно чувствовать реальную почву под ногами.
Угол дома с кружевным углом ржавого карниза висит в космосе. Бабочка, вспорхнувшая на цветок, — вечность. Мы умираем в бесконечности и все время ждем, что будет в конце. Левитановский «Март» — крыльцо, снег, лошадка — мне часто видится на фоне черного звездного космоса, приближенного, как в телескопе.
Всегда хочется поймать переход времени в вечность.
Однажды мне шепнули: вы — пришелец!
Я только палец приложил к губам.
И улыбнулся. И заплечный шелест
Так грустно канул к липам и дубам.
Петродворец сиял во всем параде,
А женский взор сиял, как бирюза,
Но, спохватись, в земном и сером взгляде
Я спрятал настоящие глаза.
Со мной случалось очень редко это.
Я так привык держать себя в узде.
Но были Дни великого поэта,
И я забыл, что я не на Звезде.
Я должен быть не узнан и не понят.
Я должен быть держащимся в тени.
Я должен быть не тем, о ком трезвонят,
А тем, кто каждой улице сродни.
Всю ночь шел дождь. Всю ночь писал стихи.
И рисовал. Отмахиваясь веткой
От облаков. Последние штрихи
Все наносил. Все падал мелкой сеткой.
Блестела крыша. На нее глядел
Чердак соседней крыши. Дождь редел.
Стихи заканчивались. И чужими
Уже казались. И рисунок был
Чужим уже. На нем блестела крыша.
И лунный свет! Сквозь дождь!
Я не забыл,
Что мне пора, что — время… Тише, тише…
Окно чернеет… Дверь я сам закрыл.
Тьмой пустоты уже снижалось небо.
Я знал, что мне нельзя покинуть Пост.
Но, как монах, Земле свершая требу,
Я плакал, не желая видеть звезд.
Планета Икс шла прямо на сближенье
Со мной одним. Сквозь рябь черновика.
И мощь ее святого притяженья
Я ощущал как будто сквозь века.
Окно и дверь. И чистый лист бумаги.
Да в пальцах это вечное перо.
И дуновенье горестной отваги:
Договорить, оставить серебро…
Я помню все! Я не имею права
Земными буквами о неземном…
Но умоляю… Перед переправой…
Я заслужил… Я только об одном…
Прошу хоть час земного опознанья
(У нас так не бывает, знаю я).
Но как он прав!.. Последнее сказанье,
И летопись окончена моя.
Еще есть пыль Московского вокзала,
Еще есть рифмы к «ползать» и «парить»!..
И, приближаясь, мне Звезда сказала:
«Что ж, говори».
Я буду говорить.
Но только с теми, с кем я рядом жил,
Где чудом голову я не сложил.
Мне сорок лет. Я вышел на свободу
Из бытия или небытия.
Из дома… из тюрьмы… не знаю я.
Какая разница… Кому в угоду
Я должен точный адрес рисовать
Или картинку Выхода и Входа?
Для тех, кто все привык адресовать?
Я на Земле от имени отвык.
Теперь полет понятий — мой язык.
И он туда направлен, где за пылью
Роящегося Млечного Пути
Меня еще, наверно, не забыли
Две-три персоны, юные почти.
Я прибегаю все еще к словам.
Но я достиг той самой лунной фазы,
В которую так страшно деревам,
Засеребрившимся…
Прощайте, вязы!
Прощай, стена!
Мне дурно, но чуть-чуть…
Я замолчал. И мне открылся Путь.
Я бросился в него! И — надо мной
Деревья зашумели, встав стеной,
Запахло вдруг проселочной дорогой,
Ромашкой, сеном… Звездный небосвод
В двух колеях, черневших, отразился.
Я этому пейзажу поразился.
Казалось, я сойду с ума вот-вот.
Исчезла полночь. Полдень воцарился.
Мелькают загорелые коленки,
И ситец платья, тело обтекая,
Взлетает. Ты его руками ловишь
И наклоняешься к волне ромашек.
Я сквозь ресницы на тебя гляжу,
Со стебельком в зубах в траве лежу,
Не замечая, что уже сквозь годы
Гляжу на облако и на тебя…
Мелькают загорелые коленки,
Ты приближаешься, летишь по лугу,
Гляжу на небо, близкое к испугу…
И открываю в комнате глаза.
И думаю, почти без сокрушенья,
Оглядывая вновь свое жилье:
Вот каково земное притяженье!
Или твое…
Всю ночь шел дождь. Всю ночь писал стихи.
И рисовал. Отмахиваясь веткой
От облаков. Последние штрихи…
И снова — тот же час и та же ночь.
Теперь я память должен превозмочь.
Что еще сделать?
Холоднее льда,
«Договорить», — ответила Звезда.
Я так устал средь этих пальм и елей,
Меридианов, войн и параллелей
(Откуда знать придумавшим ракеты,
Как устают пришельцы и поэты).
Среди каких-то служб, каких-то наций
И просто непонятных махинаций,
Где логика почти на все готова,
Раз отрубают голову за слово.
Где просто Планетарное искусство,
А рядом подлый миф, как меч Прокруста.
Зачем? Когда и так, без ваших мифов,
Поэзия есть вечный труд Сизифов,
В котором камень мудрости от века
С холма опять летит на человека.
И только вам, землянам, непонятно,
Что он совсем другим летит обратно.
… … … … … … … … … … … … … …
Вот так и я — к холмам и ликам милым
Вернусь уже почти другим посылом.
Я заболел тяжелым миром вашим
С его ядром, случайно не погасшим…
Тем, кто войдет, оставлю на столе
Стихи. Я был поэтом на Земле.
Но это было только порученье
И не имеет более значенья.
… … … … … … … … … … … … … …
«Увы, увы», — кричит ночная птица
В сыром саду. И нам пора проститься.
У подмосковной гнущейся березы
Ты у меня в глазах стоишь, как слезы.
Ты не поймешь того, что я отозван.
Ты будешь плохо думать обо мне.
Но будет ночь. Ты обратишься к звездам
И обретешь свободу не во сне.
… … … … … … … … … … … … … …
Проститься трудно мне и с богомазом,
Нарисовавшим Бога по рассказам.
Но как он смог понять сестру и брата,
Не понимая Черного Квадрата?
Я б не сумел, имея кисть и очи,
Не видеть звезд среди беззвездной ночи.
Ведь свет и тьма для космоса одно.
Какая тьма светил глядит в окно!
Грех не проститься мне и с земледельцем.
Среди пустых тележек и телег
Присядь со мной по-свойски, как с пришельцем,
Ведь сам живешь, как пришлый человек.
Я напишу пленительную книгу
О лепестках, ресницах и зрачках.
А ты подаришь хлеба мне ковригу,
Чтоб я остался в Вышних Волочках.
Но есть миры и выше нежных елок
И рвущих сердце речек и полей.
Я уважаю этот древний волок,
Но, знаешь, тянет душу Водолей.
… … … … … … … … … … … … … …
«Увы, увы», — кричит ночная птица
В саду промокшем у монастыря.
Звезда, я плачу, вспоминая лица,
Которых больше не увижу я.
Я послан был тобой на эту сушу,
Чтоб, позабыв о воле и крыле,
Бессмертную свою оставить душу
Всю, по частицам, на чужой земле.
С чего ж я плачу, сбрасывая бремя —
Земную пыль, земной недолгий час?
У нас пространства нет. Есть только время,
Оно зовется вечностью у вас.
…Я так устал на вас похожим быть.
К тому ж за годы, что я здесь бытую,
Вы и меня сумели убедить,
Что нет меня, что я не существую.
Покуда не опознан Человек,
Все эти миллионы невидимок,
В заботах коротающие век,
Все НЛО — один туманный снимок.
Былых фантазий бывший фаворит,
Двадцатый век, век — маска, век — насильник,
Зачем тебе энергия, рубильник?
Чтоб делать пеплом все, что говорит?
Как некий дух над каждым человеком,
Как в черном космосе парад планет,
Парад веков стоит над вашим веком,
И от него нигде спасенья нет.
… … … … … … … … … … … … … …
Я, как дитя, представил бесконечность —
И страх объял меня. Я в Путь готов.
Я здесь оставил душу. Дай мне, вечность,
Хотя б минуту для немногих слов.
Увы, прощайте, гордые, как дети,
Что занеслись, экзамен первый сдав.
Хулу или хвалу чужой планете
Нам воздавать нельзя. Таков устав.
Но я закон своей звезды нарушу.
Вы — гениальны. Это не секрет.
Вы умудрились сделать смертной душу!
Нигде другой такой планеты нет.
… … … … … … … … … … … … … …
Всю ночь шел дождь. Всю ночь писал стихи.
И рисовал. Отмахиваясь веткой
От облаков. Последние штрихи
Все наносил. Все падал мелкой сеткой.
И слушал шелест крыльев за спиной,
И все руками разводил от счастья.
И две луны вставали надо мной.
Одна была похожей. Но отчасти.
Как вам сказать, где ожил я теперь,
Как сообщить без буквы и без фальши?
Созвездье Лебедя? Оно — как Тверь
Или Можайск… Мы несравнимо дальше…
Там нет конца…
1989, 1990