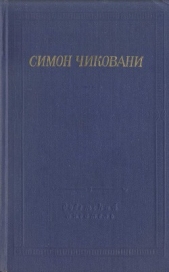Задвижку снять — дверь отойдет сама.
Он вслушался. Снаружи — полутьма.
Висит лампешка желтым пустяком
И тлеет на шнуре под потолком.
Безлюдно. Тихо в этом малом мире,
По лестнице безмолвный поворот.
Пора идти. И он сейчас уйдет,
Вот только двери запереть в квартире,
Вот лишь записку положить опричь
Настольной лампы, чтобы углядели:
«Ушел туда, куда вы не хотели,
Чтоб я ходил». И подписать: «Ильич».
Теперь быстрей. Сейчас он облачится
В невзрачное пальтишко поржавей,
Надвинет чью-то кепку до бровей
И так стремглав по лестнице промчится,
Что даже Рахья, [67] молчаливый страж,
Не сдержится и попеняет строго,
Мол, если в темноте тут сломишь ногу,
Так ведь не доберешься никуда ж.
И пусть пеняет. Спутник он надежный.
Всё будет ладно. Нет пути назад.
Они вдвоем пройдут весь Петроград,
Предчувствующий, грозный и тревожный.
Скорее в Смольный. Там друзья, там ждут.
Настал дерзанья день, пришел последний срок.
Там надобны души неимоверный труд
И ясность виденья, отточенная впрок.
И он, неся в себе огромной массы сдвиг,
Принявший на себя людских мильярды вольт,
Идет сквозь Петроград, как через материк,
На свой бессонный пост, где гроз всемирных
пульт.
Не хочет сдаться даль. Увяз на месте час.
Заборы. Ветер. Снег. Квартал, еще квартал.
Те, кучкой шли, — прошли. Трамвай
проскрежетал.
Но вот проспект вильнул и отщепился прочь.
Литейный мост привстал, Литейный мост осел.
Никто ничем нигде в решающую ночь
Дорогу преградить не взялся, не посмел.
Как сдуло за угол крикливых юнкеров,
Качнулся вбок дозор солдатский на мосту.
Вот-вот увидит он сияние костров,
От окон Смольного гонящих темноту,
Волнуясь, перейдет всю площадь напрямик
Туда, где средь шеренг рокочет броневик,
Где сполохи кудель нависших туч багрят,
Где пушки у ворот сторожкий держат ряд.
Там, где река людей, соединясь, растет,
Расступятся пред ним крутые патрули,
И в революции гудящий штаб войдет
Ее верховный вождь, восставший сын Земли.
1971
Перевод Ал. Ал. Щербакова
Он с нами шел, еще наполнен гулом,
Тем гомоном прекрасным и могучим,
Каким его на площади встречала
Ликующая, шумная толпа.
Он с нами шел, и радость в нем играла,
И буйно билась, и ключом кипела,
В глазах сияла, на устах светилась
И пряталась под темными усами,
Выплескиваясь из-под них усмешкой.
Он с нами шел, еще не наглядевшись
На краски человечьего потока,
Что золотом, багрянцем, синевою,
Неукротимым радужным цветеньем,
Весенним бело-розовым расцветом
По многозвучным улицам Софии
Струился бесконечно вдоль трибуны.
Он жадно, щедро и самозабвенно
Душой вливался бы в другие души,
Тонул бы взглядом в каждом добром взгляде,
И пожимал бы трудовые руки,
И всех детишек к сердцу бы прижал.
Ведь это шли его родные люди,
Его народ, свободный и красивый.
Страна справляла торжество свободы,
Болгарского раскованного слова,
Болгарского старинного писанья
В день, посвященный письменности, в день
Кирилла и Мефодия. Народ
Впервые за минувшие столетья
Слил воедино слово и свободу
В один высокий, славный, неделимый,
Победный, светлый, всемогущий гимн.
Он с нами шел. Нас — несколько посланцев
На праздник из Советского Союза,
И все мы, так же как хозяин наш,
Растроганно, взволнованно, счастливо
По парку шли, вослед за Димитровым,
В порывистую вслушиваясь речь.
Цвели сереброствольные платаны,
Веселой рябью запятнав аллею,
Серебряно дрозды перекликались,
Серебряно поблескивали нити
Седых волос, как бы вплетенных в волны
Откинутой свободной львиной гривы.
Он шел стремительно. Он счастье нес в себе.
Светился победительною силой
Красивого болгарского мужчины,
Отважного, запальчивого мужа
Больших советов и великих битв.
Он говорил. Души его волненье
И страстность Прометеева его
Ложились рассудительно и мудро
В простые, неприкрашенные фразы
Из точных и прямых, непышных слов,
Таких же беспредельно человечных,
Как этот человечный человек,
Который стал за жизнь свою легендой,
Но памятником собственным не стал.
Он говорил о чудотворстве слова,
О письменности несравненной силе,
О свете поэтического взлета
И о стихах, насущных, точно хлеб.
Употребляя имена родные,
Он их назвал созвездьем побратимства —
Мятежный Ботев, Пушкин и Шевченко,
Предвестники той радости великой,
Когда народы, распри позабыв,
Одной семьею станут. Он сказал,
Что счета нету им, искристым граням
Прекрасного алмаза языка,
Который чист и тверд, как дух народа,
Затем что он рожден в его глубинах.
В них разгорелся, спекся, прояснился,
Набрался силы тот алмаз священный,
Примета и прикраса всех племен.
Я ликовал, прислушиваясь к речи,
Что гордо раздавалась вкруг меня,
Предчувствуя, каким широким светом
Пойдет греметь торжественный язык,
Написанный узорами Кирилла
На пурпуре развернутых знамен.
Когда за стол, украшенный цветами,
Уселись мы, чтобы отметить праздник,
Он поднялся, вином наполнил кубок,
И вспыхнуло костром оно в кристалле,
Поднял его и осушил до дна
За слово нашей правды человечьей,
Святой навеки и простой навеки,
Как свет, как жизнь, как воздух, как свобода.
1972
Перевод М. Алигер