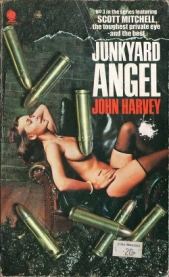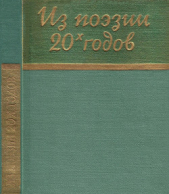Падший ангел

Падший ангел читать книгу онлайн
Глеб Горбовский - один из самых известных ленинградских (а ныне санкт-петербургских) поэтов-`шестидесятников`, `последний из могикан` поколения Николая Рубцова, Владимира Соколова, Иосифа Бродского. Достаточно вспомнить его `блатные` песни 50 - 60-х годов: `Сижу на нарах, как король на именинах…`, `Ах вы, груди, ах вы, груди, носят женские вас люди…`. Автор более 35 поэтических и прозаических книг, он лишь в наше время смог издать свои неопубликованные стихи, известные по `самиздату` и `тамиздату`. Глеб Горбовский 90-х годов - это уже новое, яркое явление современной русской поэзии, последние стихи поэта близки к тютчевским традициям философской лирики. Сборник издается к 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности Глеба Горбовского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
...И тут расслабленный мужчина
рванулся с койки — в мир иной.
Но в те расстанные мгновенья,
что нам даются, как венец,
ему пригрезилось виденье:
одно из множества сердец...
Все в язвах зависти кислотной,
в рубцах тщеславия, в слезах
неверия, в тоске бесплотной —
оно висело в небесах.
И голос был как запах серы,
как эхо дна — в небесну высь:
«Соль зла в твоем гнездится сердце,
взгляни в него — и ужаснись».
ТРЕТЬИ
Памяти мирных граждан войны
Участникам войны — почет и ордена,
смерть и бессмертье,
а на долю третьих
(в борьбе сторон — есть третья сторона),
на долю третьих —
лишь ухмылка смерти.
А если — жизнь, то чаще без отца,
без дома, без любви,
с душою инвалида...
Участникам войны,
тем, кто глотнул свинца,
и тем, кто не глотнул, —
и слава, и эгида.
Жить под эгидой подвига — одно.
Жить под опекой ужаса — другое.
Участникам войны завидовать грешно.
А третьим...
Вот ведь дело-то какое.
МУЗЫКА
Касаясь при жизни всего понемногу,
однажды подумать в концертных слезах:
«А все-таки музыка — ниточка к Богу!
Связует! И мы забываем свой страх...»
Веселье прокиснет. И радость прогоркнет.
И сухо на сердце. И холод в глазах.
Но музыка добрые слезы исторгнет!
И чаши качнутся на судных весах.
* * *
Я схоронил свою мечту:
Она во мне, как в темном склепе,
а ей бы плавать в синем небе,
цедя сквозь зубы высоту!
Я пережил себя в себе.
Тот человек, что звался мною,
стал запредельной тишиною,
росой на ангельской тропе.
Но... я узнал в пучине дня,
в стремнине пешего потока, —
ту, что вскормила грудью Бога!
...С какой печалью и тревогой
она взглянула на меня.
* * *
Блаженны нищие духом...
Лампада над книгой потухла,
а строчки в глазах все ясней:
«Блаженны голодные духом,
взалкавшие правды Моей!»
Сижу в окружении ночи,
читаю в себе письмена,
как будто я старец-заточник
и нет в моей келье окна.
Но в сердце — немеркнущий праздник,
и в вечность протянута нить.
И если вдруг солнце погаснет —
все ж Истина будет светить!
Глеб Горбовский с товарищами по ссйсмобрнгадс.
Река Кспега, Северный Сахалин, 1958.
Я ВЕРНУСЬ
...возвратить поглощенное.
Я. Ф. Федоров
Всего нагляднее — в апреле,
когда из-под одежд зимы
трава — в сиянии и в теле —
в мир возвращается из тьмы.
Так в сердце — на исходе жизни —
в сию копилку снов, гробов,
трещиноватую от истин, —
вдруг возвращается... любовь!
Так на забытую могилу
Цветаевой, где мгла и мох,
второй, наджизненною силой
слетает славы поздний вздох.
...Блажен, кто верит в «небылицы» —
в бессмертье душ, в Святую Русь,
кто, распадаясь на частицы,
с улыбкой мыслит: «Я — вернусь!»
Кто чрез смертельные границы
плывет, как журавлиный клик...
С чьей опаленной плащаницы
к нам проступает Божий лик.
ЖЕРНОВА
Порхов. Остатки плотины. Трава.
Камни торчат из травы — жернова.
Здесь, на Шел они, забыть не дано —
мельница мерно молола зерно.
Мерно и мудро трудилась вода.
Вал рокотал, и вибрировал пол.
Мельник — ржаная торчком борода —
белый, как дух, восходил на престол.
Там, наверху, где дощатый помост,
хлебушком он загружал бункерок
и, осенив свою душу и мозг
знаменьем крестным, — работал урок.
...Мне и тогда, и нередко теперь
мнится под грохот весенней воды:
старая мельница — сумрачный зверь —
все еще дышит, свершая труды.
Слышу, как рушат ее жернова
зерен заморских прельщающий крик.
Так, разрыхляя чужие слова,
в муках рождается русский язык.
Пенятся воды, трепещет каркас,
ось изнывает, припудрена грусть.
Все перемелется — Энгельс и Маркс,
Черчилль и Рузвельт — останется Русь.
Не потому, что для нас она мать, —
просто не выбраны в шахте пласты.
Просто трудней на Голгофу вздымать
восьмиконечные наши кресты.
* * *
Когда устанете глаголить о генсеке,
о беззакониях в Двадцатом веке-зеке, —
вдруг кто-то вспомнит о начале дивной речки,
о человечке — стриженой овечке,
о том, как искренне торжественная туча
над городом плывет, ломая сучья;
о том, как тщательно антенна в поднебесье
усами ловит улетающие песни;
о том, как истово мальчишка лет под сорок
гоняет голубей, поправших город;
о том, как некую тревожили старушку,
что, взорванную, помнила церквушку;
о том, как крест ковали в кузне искрометной
и золотили... солнцем! В час рассветный.