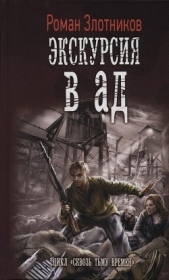Иверский свет

Иверский свет читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
тень моя, отброшенная в небо,
наклонившись, смотрит на меня.
Молодая черная береза!
Видно, в Новой Англии росла.
И ее излюбленная поза —
наклоняться и глядеть в глаза.
Холмам Нового Ерусалима
холмы Новой Англии близки.
Белыми церковками над ними
память завязала узелки.
В черную березовую рощу
заходил я ровно год назад
и с одной, отбившейся от прочих,
говорил, и вот вам результат.
Что сказал? «Небесная бесовка,
вам привет от северных сестер... »
Но она спокойно и бессонно,
не ответив, надо мной растет.
ИСПАНСКАЯ ПЕСНЯ
графа Резанова
из оперы «Юнона и Авосьэ
И в моей стране и в твоей стране
до рассвета спят — не спина к спине.
И одна луна, золота вдвойне,
и в твоей стране и в моей стране.
И в одной цене, — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.
И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.
И в твоем вранье и в моем вранье
есть любовь и боль по родной стране..
Идиотов бы поубрать вдвойне
и в твоей стране и в моей стране.
СВЕТ
Я шел асфальтом. Серый день.
Сегодня не было теней.
Но предо мной ложилась тень,
от жизни брошена моей.
Я оглянулся. Никого.
Но тень была. Верней всего,
твой отсвет, в памяти живой,
шел, как с фонариком, за мной.
ДЕТСТВО
Я снова в детстве погостил,
где разоренный монастырь
стоит, как вскинутый костыль.
Мы знали, как живет змея,
как пионервожатая —
лесные бесы бытия!
Мы лакомством считали жмых,
гранаты крали для шутих,
носами шмыг — ив пруд бултых!..
И ловит новая орда
мою монетку из пруда,
чтоб не вернуться мне сюда.
ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ
Б. С,
Привинченный к полу,
за третьей дверью,
под присмотром
бодрствующих старух —
непоправимая наша вера,
пленный томится
Дух.
С.-.. .. с бронированные —
самые ранимые —
самые спокойные
напоказ...
Вынуты из раковины
две непоправимые
замученные
жемчужины
серых глаз.
Всем дававший помощь,
а сам беспомощный,
как шагал уверенно в ресторан!..
То. что нам казалось
железобетонищем,
оказалось коркою
свежих ран.
Лежт дух мужчины на казенной
простыне,
внутренняя рана —
чем он был, оказывается...
Ему фрукты носят,
как прощенья просят.
Он отказывается.
ДЕЖУРНАЯ АПТЕКАРША
Аптекарша, дай мн* забвение!
Желательно внутривенное
Я, аптекарша, из села Вязники.
По матери все мы язвенники...
Аптекарша, дай кислорода!
Перекрыли царя природы.
Без очереди, криворотый!
А ночью рецепт отксда же?
Со всего света мы тут, аптекарша...
Не сосед, а горе-эпочастие —
аптекарша, дай противозачаточное...
Я тебя в дежурово развлекаю.
Ты все время возвращаешься к клиентам.
Хохлятся латинские лекарства
на крутящихся темных этажерках,
словно рижские голубятни
или кафедры римских соборов
Аптекарша, бессонный мой совенок!
Дверь дубовая — на засовах,
в ней квадратное окошко за решеткой,
и сквозь это окошко милосердное
умоляют глаза и носоглотки,
рецепты, фуражки милицейские,
кашли, башли, печали, челюсти.
Излечимо ли человечество?
Аптекарша, дайте мне яду!
Принимайте, по возможности, Моцарта,
Аптекарша, свинцовых примочек,
а шоферу чего-нибудь мятного!
Я с поста. Отвори, аптекарша,
изложу дежурство протекшее.
Я кручу лекарственные столики.
Меня их круженье забавляет.
Скажем, вызову: «И. С. Кроликов!»
И Кроликов появляется
Аптекарша, блок кодеина.
Обтерпишься! (Местный Катилина.)
Я взрываюсь: «Алкаши! Пустобратия!
Упыри! Марафетчики патлатые!»
Говоришь ты: «Выключу радио...»
И мне рот затыкаешь халатом.
Аптекарша, смерь артерию,
Отужинаем, аптекарша!
Дочка сейчас отелится,
облажались мы с тобой, аптекарша.
Аптекарша, аптекарша, аптекарша...
Аптекарша, дай мне забвение.
Возможно. Но тем не менее...
Излечимо ли человечество?
Смерть — причина или личина
неземной какой-то заразы?
Стойки лекарственных заказов
кружатся в наивном спиритизме.
И дрожат, недоступные для глаза,
паутинки радужные жизни.
от тебя протянуты в квартиры,
к обитателям краткого крова,
к постовому, к тому же Кроликову,
как бессонные лески рыболова.
Ослабела вдруг паутинка —
значит, в ком-то жизнь поутихла.
Ты встаешь, чью-то жизнь поправишь,
аптекарша, случайный мой товарищ...
Пахнет сеном, сушеной астрой,
буквы вышиты на халатике.
Ты к нам перевелась из-за астмы
из какой-то другой галактики.
И когда посетители последние
откачнутся, оставив кассу,
ты встаешь и в надрывном кашле
припадаешь к окошку милосердному,
видишь город, и утро серое,
и сквозь тучи, почти весенние,
откроется квадратик небосвода...
«Дайте аптекарше кислорода!»
Не понимать стихи — не грех,
«Еще бы, — говорю, — еще бы.
Христос не воскресал для всех.
Он воскресал для посвященных.
Чтоб стало достояньем веек,
гробница, опустев без тела,
как раковина иль орех, —
лишь посвященному гудела.
Нас посещает в срок —
уже не отшучусь —
не графоманство строк,
а графоманство чувств.
Когда ваш ум слезлив,
а совесть весела,
ищет какой-то слив
седьмого киселя.
Царит в душе твоей
любая дребедень, —
спешит канкан любвей,
как танец лебедей.
Но не любовь, а страсть
ведет болтанкой курс.
Не дай вам бог подпасть
под графоманство чувств.
Знай свое место, красивая рвань,
хиппи протеста!
В двери чуланные барабань,
знай свое место.
Я безобразить тебе запретил.
Пьешь мне в отместку.
Место твое меж икон и светил.
Знай свое место.
Е. IV.
Как заклинание псалма,
безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма
"Л/оЬиНтап5".
«Родной! Прошло осьмнадцать лет,
у нашей дочери — роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
Р. 5. Не удался пасьянс».
Мелькнет трефовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнется пистолет.
Вобюлиманс — С нами любовь.
Но жизнь идет наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И все Россия не поймет:
С нами любовь — Вобюлиманс.
РУКОПИСЬ
ВереСеверянин-Корснди
Подайте искристого
к баранине.
Подайте счет.
И для мисс —
цветы.
Подайте Игоря Северянина!
Приносят выцветшие листы.
Подайте родину
тому ревнителю,
что эти рукописи хранил.
Давно повывелись
в миру чернильницы
и нет лиловых
навзрыд
чернил.
Подайте позднюю
надежду памяти —
как консервированную сирень, —
где и поныне
блатные Бальмонты
поют над сумерком деревень.
Странна «поэзия российской пошлости»,
но нету повестей
печальней сих,
какими родина
платила пошлины
за вкус
Бакуниных и Толстых.
Поэт стареющий
в Териоках
на радость детям
дремал, как Вий
Лицо — в морщинах.
таких глубоких,
что, усмехаясь,
он мух
давил...
Поэт, спасибо
за юность тамину,
за чувство родины,
за розы в гроб,
за запоздалое подаяние,
за эту исповедь —
избави бог!
ЛЕСНАЯ МУЗЫКА
Пасечник нашего лета
вынет из шумного улья
соты, как будто кассеты
с музыкою июля.
Смилуйся, государыня скрипка,
и не казни красотою