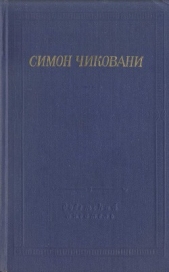76–87. АНГЛИЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Так вот она, махина меловая,
Ползущая с нагих приморских скал,
Где дуврский рейд грохочет, открывая
Холодный свой, обрывистый оскал.
Так вот она, твердыня Альбиона,
Вот неказистый известковый щит,
Передовая линия заслона,
Что пред собой от века держит бритт.
Так вот они, столбы ворот английских,
В холодных скалах стиснутый канал,
Меж берегов, заостренных и близких,
В отливах нефти глянцевитый вал.
Война оседлым лагерем стояла
На скалах Дувра, на песках Кале.
И трижды в день над волнами канала
Зловещий грохот возникал во мгле.
И сквозь туман штормов и снегопадов,
Летя во тьму английских городов,
Параболы скрежещущих снарядов
Висели здесь аркадами мостов.
Краснели волны и уступы мела,
Когда, дорогу смертную прорыв,
Железо Круппа выло и гремело
И вырастал, как черный дуб, разрыв.
В наш век война отменно долгорука,
Легли на Дувр ручищ ее следы:
Горелая громада виадука,
Зубцы развалин, горький дым беды.
Не этот дот бетонный низколобый,
Не ребра тех заржавленных ежей.
Не полисмен, черномундирный бобби,
Остановил врага у рубежей.
В другой стране решалась ваша доля.
Британские крутые берега!
…Полынь степей, курган донского поля
Да русская широкая река.
Врагам затем лишь силы не хватило
Сковать Ла-Манш понтоном иль мостом,
Что Волга их навеки поглотила.
Британия! Ты помнишь ли о том?
Перевод П. Антокольского
Над Темзою туман плывет
И тихий хрип сирен.
Во мглу, как черное копье,
Врезается Биг Бен. [40]
Стоит костлявый часовой
Старинных двух палат,
И дергается в тьме ночной
Усатый циферблат.
На шпиле светится всегда
Огонь, как бы маяк.
Но где же призраки-суда,
Которым дал он знак?
Кто сверил с циферблатом ход
Неумолимых лет?
Он слепо смотрит в небосвод —
Ни факел, ни рассвет.
В сиянье меркнущем стоит
Гранитный гренадер,
Как знак, что до сих пор кипит
В палате долгий спор.
Ораторы — им не до сна.
Их речь накалена,
Хоть вождь — Измена, лорд — Война,
Компания одна…
И знает ветеран-солдат,
Нескладный, длинный Бен,
Что в многословье двух палат
Немало лишних сцен.
Что джентльменов крупный торг
Свершится без рацей —
На всё, что им велит Нью-Йорк,
Лишь отвечай: «О’кей!»
«Я, — Бен бормочет, — в стороне.
Король довольно мил,
Но речь свою, сдается мне,
У янки одолжил.
Он сокращает, говорят,
Роскошный штат палат;
Не требует больших затрат
Сорок девятый штат.
Уверен Уолл-стрит, притом
Готов он утверждать:
Коль бритт не хочет стать рабом,
Лакеем может стать.
За доллары вожди и знать
Весь остров отдадут,
Чтоб сохранить, чтоб не отдать
Усадебный уют.
Хоть и привлек таких людей
Заморский джентльмен,
Но не изрек народ: „О’кей!“,
„О нет!“» — промолвил Бен.
Как быстро гордый век проплыл
И как дворец зачах!
Где порох заговоров был,
Теперь там только прах.
Биг Бен, усач солдат, сквозь тьму
Часов считает бой.
Быть может, стража ни к чему,
Не нужен часовой!
Не поплывет вперед — о нет! —
Не сдвинет рубежи
Застрявший на мели скелет
Готической баржи.
Ну что ж! Торчи и сторожи,
Худой, высокий Бен,
Груз старой кривды, старой лжи
Сутяг, бумаг, измен.
И подтянул солдат-старик
Изношенный камзол,
До сердца, кажется, проник
Двух стрелок злой укол.
И древней башни зазвучал
Его понурый бас —
Он всё печальней измерял
Имперский долгий час.
Восток в заре, а тут лишь звон
У темных, старых стен…
Ускорь, ускорь же ход времен,
Биг Бен, Биг Бен, Биг Бен!
Перевод М. Светлова
Всем грузным туловищем в кресле утонул,
Насупился, дымит сигарой целый вечер,
Блудливыми гляделками блеснул,
Но суетливо прячет их при встрече.
Желта и масляниста, словно сыр,
Круглится голова, откинутая сразу.
Смочив слюной, жует он злую фразу,
Которою хотел бы плюнуть в мир.
И руки трет, к сражению готовясь,
Так истово, как будто моет их.
Еще бы! Ведь ладони рук своих
В грязи немалой замарал торговец!
Но не замыть кровавых пятен тех —
Кровавые, навеки въелись в тело.
О, как ему знакомо злое дело,
Отрава лицемерья, грязный грех!
Недаром вяжут пухленькие руки
Измены, дрязги, драки стольких стран,
И тайный торг, и явственный обман,
И клоунски-ораторские трюки.
Но снова рвется сеть его интриг,
И тайна вылезает, обнаружась,
И вновь его охватывает ужас,—
Старался же, из кожи лез старик!
Вот отчего трясет его тревога,
И мглой белки подернуты слегка,
И брылья щек маститого бульдога
Свисают чуть не на борт пиджака.
Он тридцать лет живет одной отравой
И злобно смотрит целых тридцать лет,
Как на востоке триумфальной славой
Сияет человечества рассвет.
Он сделал всё, что мог, — брюзжал, ругал, порочил
Дразнил, и грыз, и ублажал, и ныл,
И ласково прельщал, и яростно пророчил,
И челюсти свернул, и руки кровянил,—
Ничто не помогло: ни свара, ни разлад,
Ни хитрость сыщика, ни месса Ватикана.
Идет история! Колеса великана,
Хоть лезь под них, не вертятся назад!
Ну что ж! Витийствуй, лжец! Выбалтывайся в
спиче!
Высматривай из-под опухших век,
Впивайся, лживый, подлый человек,
В глаза чужие, в чуждые обличья!
Так точно, как недавно ты глядел,
Завистливо, упрямо и пристрастно,
В глаза бойцов и в красоту их дел.
Продать их жизнь ты, кажется, хотел,
И продал бы, да сделка не подвластна.
Ты наклоняешься, не хочешь повстречать
Взгляд человеческий хотя бы на мгновенье.
Невыразимую скрываешь ты печать,
Знак слепоты, тревоги, омертвенья,
Зловещее последнее клеймо,
Что время на тебя кладет само!
Перевод П. Антокольского