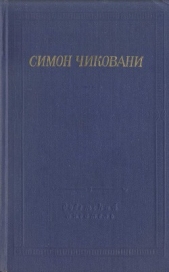Он вошел — довольный, шумный,
Самый бравый из гуляк.
«Мой девиз: цеди, не думай!
Чарку! Виски иль коньяк?»
Звучным тостом, громким спичем
Звон бокалов заглушен.
И, сияя всем обличьем,
Осушает чарку он.
Выпил, крякнул, не уходит.
«Вы не пьете? Я — один?» —
И гостей, привстав, обводит
Наглым взглядом господин.
Что ж, солдат осилит фляжку
Без жеманства и гримас.
Весь душой он нараспашку,
Всем готов служить для вас!
Пить — так пьет, дружить — так дружит.
Говорит, коль не охрип,
Только взгляд уликой служит:
«Вот я, киплинговский тип!»
Жесткий усик над губою
Рыжим ежиком торчит,
Око пулею стальною
Собутыльника сверлит.
Рот коньячным дышит жаром,
Щеки движутся едва,
И не лондонским загаром
Вся покрыта голова.
Из каких он стран явился
В город стали и угля?
Где, в которой он кормился,
Разоренная земля?
Может быть, в малайских дебрях
Джентльмен бродячий сей
Вытирал платком на гетрах
Кровь расстрелянных детей?
Иль на склонах Гималаев,
В честь империи трудясь,
Подкупал он, вдрызг излаяв,
Человеческую мразь?
Или в тюрьмах отдаленных
Сей бродячий господин
Взвесить головы казненных
Торопился из Афин?
Где он, злобен и порочен,
Для империи возрос?
Червь сокрытых червоточин,
Из каких земель приполз?
Вот вошел он, парень бравый,
Самый шумный из гуляк,
Взял рукою сухощавой
Чарку — виски иль коньяк?
И узнали мы мгновенно,
Не забытый ни на миг,
Тень отбросивший на стену,
Низколобый страшный лик.
Галуном сверкая флотским,
Шли такие же, как он,
По барханам красноводским
На отмеченный кордон.
И под грохот барабана
Уже не он ли, наш сосед,
Прямо в сердце Шаумяна
Разрядил свой пистолет?
Сколько ж раз он жаркой кровью
Шаумяновых друзей
Орошал, не дрогнув бровью,
Прах чужих ему полей?
Нет уж, сами, сударь, пейте,
Пейте ночи напролет!
Пусть за все услуги эти
Мистер Бевин вам нальет!
Повернуть на эти спичи
Не хотим мы головы.
Только взглянем на обличье —
Знаем, сударь, враг-то — вы!
Перевод Н. Заболоцкого
Не клянчил он. Не нищенствовал горько.
Глаза потупил и окаменел.
И видел ноги, только ноги, только
Их вереницу разглядеть сумел.
Счет потерял он — жирным и поджарым,
Мясистым, стройным, маленьким, большим.
Прошелестели все по тротуарам,
Спешили вдаль, сменяясь перед ним.
Все мимо шли, все перед ним чернели,
Ни на кого не поднимал он глаз,
И только фартинг на сырой панели,
Катясь к нему, позванивал не раз.
Убогий грош, кружок медно-зеленый…
И неказистый заработок свой,
Приниженный, молчащий, обозленный,
Брал живописец с мокрой мостовой.
Да, он таков. Набором разноцветных
Своих мелков выводит он подряд
Зигзаги туч вечерних и рассветных,
Лазурь озер, багрянец горных гряд;
И зелень пастбищ Англии любимой,
И скал ее зазубрины и мел,
И тусклый блеск волны, у скал дробимой,
Художник-нищий набросать сумел.
Всё, что любил и помнил он, все смены
Зимы и лета, сумерек и дней…
Он под ноги вам, леди, джентльмены,
Швырнул работу, ждет вниманья к ней.
Ступайте же по линиям эскизов,
Топчите же пейзажей пестроту!
Откликнулся ли кто-нибудь на вызов
Художника, слыхал ли просьбу ту?
Иль в давке городской вам непонятны
Его набросков острых голоса,
Бессильные, растоптанные пятна,
Молящая панельная краса?
Она кричит в изломе и сплетенье
Неясных линий — горьким ртом тоски.
Отчаянной игрою светотени
Кричит, не опустив худой руки.
Напрасно всё! Проходят сотни, тыщи,
Наносят грязь на пестроту картин…
Ты не один. Тот шут, а этот нищий —
Немало вас таких. Не ты один.
В салоне модном иль на тротуаре,
Один открыто, а другой тайком,
Жрец красоты с нуждою дикой в паре
Довольствуется жалким медяком.
И падает со звоном желтый пенни
На живопись, на плиты мостовой.
В ладони грязной в жадном нетерпенье
Сжал живописец заработок свой.
Перевод П. Антокольского