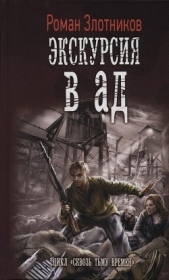Иверский свет

Иверский свет читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
наке, не говоря уже о Багрицком и Сельвинском.
Поздний Пастернак много работал над чистотой
стиля.
В одном из своих прежних стихов он сменил «манто»
на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь
она называлась «Импровизация на рояле».
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, — всё знают, казалось. — всё могут
Кричавших кругом лебедей вожаки.
И было темно, и это был пруд
И волны; и птиц из семьи горделивой.
Казалось, скорей умертвят, чем умрут,
Крикливо дробившиеся переливы.
Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но
что-то ушло. Может быть, художник не имеет права
собственности над созданными вещами? Что, если бы
Микеланджело все время исправлял своего Давида в
соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?
Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала
притчей во языцех:
Это сладкий заглохший горох.
Это слезы вселенной в лопатках.
Лопатками в давней Москве называли стручки горо-
ха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в
комментариях, как сведение о пушкинском брегете.
Но, видно, критические претензии извели его, и под ко-
нец жизни строка была исправлена:
Это спезы в стручках и лопатках...
Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть ре-
чи— значенье темно иль ничтожно, но им без волненья
внимать невозможно». Невозвратимо жаль ушедших
строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых ис-
чезнувших староарбатских переулков.
Вообще в его работе было много от Москвы с ее
улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраи-
ваются, перекраиваются, всегда в лесах.
Пастернак — очень московский поэт. В нем запутан-
ность переулков, замоскворецких, чистопрудных, про-
ходных дворов, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти
фортки, городские липы, эта московская манера хо-
дить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на
груди».
В московские особняки
Врывается весна нахрапом...
Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой
линии, языкового просторечья, вольного смешения сти-
лей, ампир уживается рядом с ропетовским модерном
и архаикой конструктивизма, — восемьсот лет, а все —
подросток! — да и дома в ней как-то не строятся, а за-
растают кварталы, как разросшиеся деревья или ку-
старники.
В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудо-
действенно образована по линейке и циркулю, с ее по-
стоянством геометра, классицизмом,— московская шко-
ла культуры, как и образ жизни — стихийнее, размашис-
тей, идет от византийской орнаментальности и близка к
самой живой стихии языка.
Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.
Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу
и художественному мышлению. Особенно он ценил
сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет,
что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде.
Впрочем, деление на поэтов московских и петербург-
ских условно, так. например, в «Двенадцати» Блока уже
гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку ска-
зывалась и в пастернаковском определении поэта. Он
сравнивает его с елкой, горящей через замороженное
узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядя-
щего на елку сквозь морозное стекло.
Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки.
Льды раскричались, таючи.
Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий и мо-
сты к Лаврушенскому. Шел ледоход. Он говорил всю
дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о
случайности и предопределенности жизни. Его шуба
была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая
шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у
него был черный каракуль, так вот он шел, легкой летя-
щей походкой опытного ходока, распахнутый, как март
в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была
талая слабость снега, предвкушение перемен.
Как не в своем рассудке,
как дети ослушанья...
Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.
«11адо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в
жизни был вакуум. У меня только треть сделанного со-
хранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не
надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть
место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о
библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изу-
мился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».
Мы шли проходными дворами.
У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и
блатные. Потягивались после ночных трудов. Они про-
вожали нас затуманенным благостным взглядом.
О эти дворы Замоскворечья послевоенной поры!
Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство по-
мимо дома?» Я бы ответил: «Двор и Пастернак».
Четвертый Щиповский переулок! О, мир сумерек,
трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек,
майских жуков — тогда на земле еще жили такие су-
щества. Стук консервных банок, которые мы гоняли
вместо мяча, сливался с визгом «Рио-Риты» из окон и
стертой соскальзывавшей лещенковской «Муркой», за-
писанной на рентгенокостях.
Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем,
голодным и справедливым. Мы были мелюзгой дво-
ра, огольцами, хранителями его тайн, законов,
его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда
стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку ки-
пятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Супер-
мен, он только стиснул зубы, окруженный почитателями,
и поливал мочой на вспухшую, пунцовую руку. По новым
желтым прохарям на братанах Д. можно было догадать-
ся о том, кто грабанул магазин на Мытной.
Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны
было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы,
собирали в подмосковных лесах. В подъезде старшие
тренировались в стрельбе через подкладку пальто.
Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Во-
лыдя, Шка, небрежные рыцари малокоэырок? Увы, увы...
Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский,
мой товарищ по классу. Мы знали, что он сын писателя,
но не знали, что сын замечательного поэта и сын буду-
щего отца знаменитого режиссера. Семья их бедство-
вала. Он где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукава-
ми не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так
появился первый стиляга в нашем дворе. Он был един-
ственным цветным пятном в серой гамме тех будней.
Лифты не работали. Главной забавой детства было,
открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному
крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой ва-
режкой. Сжимая изо всех сил или слегка отпустив трос,
вы могли регулировать скорость движения. В тросе были
стальные заусеницы. На финише варежка стиралась,
дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.
Приводы в милицию за езду на подножках были
обычным явлением. Родители целый день находились
на работе. Местами наших сборищ служили чердак и
крыша. Оттуда было видно всю Москву и оттуда было
удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под
капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрыва-
лось. Туда и принес мне мой старший друг Жирик пер-
вую для меня зеленую книгу Пастернака.
Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях дво-
ра с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до
жизни в любых ее проявлениях.
Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие
общности, соседи не знают друг друга по имени даже.
Жизнь ушла в скорлупки. Недавно, заехав, я не узнал