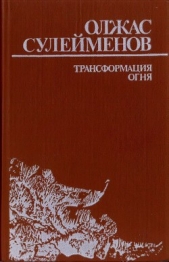— Что же ты не сказала сразу, что это был голубь?— говорил ночью Плотник, успокоенно лежа рядом с супругой.
— Сокол ты мой ненаглядный,— восхитилась Марья,— дай я тебя приголублю.
Эта версия подкрепляется и научными доводами. Живая природа представляет полную свободу Опыту. Она зависит от бесконечной череды перекрещиваний внутривидовых и, с известной оговоркой, межвидовых. Она одинаково страстно поощряет синтез любых форм живой материи, наблюдая и крах, и завязь — необходимые этапы развития. Доказывая, что нет самобытных форм и все сущее развивается во взаимодействии. Но подчеркивает: плодотворна общность в борьбе противоположностей. Стадность одинаковых столь же бесплодна, как и одиночество. Так как эти формы аналитические. У полка солдат не больше шансов произвести самостоятельно сына полка, чем у одинокой девы.
Голубь ей, конечно, противоположен, но не в такой степени. Межвидовые скрещивания иногда дают в результате явление синтеза (например, кентавры и песеглавцы), но, как правило, рождаются уроды, не способные продолжать род. «Изменяйте особи, но не виду» [7].
…Голубь вифлеемский, вошедший в образ чужой, так и не смог вернуться в перья и крылья свои; и блуждает с тех пор по свету, открывая земли, чтобы забыться в них. Но мстительный ястреб памяти настигает его всюду и когтит.
Появляется странный странник в городах и весях всегда со стороны неведомой. И не найти ему обетованную, где бы грех его не шел за ним. Может, это — Калмыков?
…В светлую полночь залетел на мой балкон темный, мохнатый турман. Теперь сидит, нахохлившись, белоглазый, на сундуке со старыми книгами и улетать не собирается. И кукурузу не клюет, и воду из плошки не пьет.
Кувыркаются в полдневном ослепительном небе белые, палевые сизари — он равнодушен. Глаз не поднимает. Складывается впечатление, что ему не интересен наш мир, усложнившийся в результате тысячелетних опытов синтеза. Мир, где рядом с розовой сиренью цветут фиалковые розы, мир, описанный красками голубыми и чернилами красными.
Даже на белоснежные Пестрые Горы мои не смотрит вороной голубь, хотя каждая из них не хуже оливкового Арарата. Вернулся из долгого отсутствия птих. Сидит и думает.
ЕВА-АНГЕЛИЕ ОТ БЛУДНОГО СЫНА
СЛУЧАЙ
…Слепил Саваоф из глины мужчину Адама
и совоокую деву, а именно, Еву слепил;
два яблока сунул под платье —
две сладкие груши,
а, если быть точным предельно,
она волногрудой была,
…Она развращала Ромула,
вконец развратила.
Она убедила его: гениальность — крамола.
С упорством помора
он волны ее пересилил,
громила,
он пел ей о пенистом море,
припев его песни унылой —
аморе, аморе, аморе!
(Название мыла?)
На зов Афродита
из пены густой восходила,
и дети ее,
а в конце — борода Черномора.
…Сорок четыре жатвы он прожил,
она — тридцать три окота.
История их — дело прошлое,
вспоминать неохота.
«Черный лебедь в белой стае…»
Черный лебедь в белой стае
массе противопоставлен,
будто стаю созвал на митинг
и оправдывается: «Поймите,
дорогие мои сородичи,
не по умыслу злому черен!»
А в это время в стаде вороньем
слезно кается
белый ворон.
С точки зрения гения,
согласно его прозрению,
перекрасить всех —
разом решить все вопросы:
все лебеди —
вороные!
Все вороны —
альбиносы!
Но, согласно закону природы
(«в племени — не без урода»),
появятся в новых выводках
по выродку,
и в силу отчаянья
все —
сначала:
белый лебедь в черной стае,
черный ворон в белом стаде…
Налей-ка, отче, синего чаю:
Истину разоблачаю.
Истина всегда нелепа —
алый ворон, желтый лебедь.
ХОЖДЕНИЯ
«О люди, земля — это блюдо!»
(из откровений Блудного сына)
…Был в его речи маленький дефект:
он «ч» не выговаривал.
И что же?
Он точно излагал, а получалось
тошно.
Не тот, вы понимаете, эффект.
«Я — личность»,— возгласил,
а вышло — Лишность.
«Все — в полотне, он — в рубище из ситца,—
подумала толпа,— и, вправду, лишний».
Решили сообща
его лишиться.
В жестоком Лишь — не толика,
но только!
Сам породил в толпе императив.
Он объяснил им што-пошто,
а толку?
Все шли за ним,
злобясь: «Опередил».
Он испытал ступени унижений,
Злосчастный звук — причина тех
лишений.
Бродил без имени, но узнавали,
в степях пинали, жгли на сеновале
и распинали где-то на Синае,
а, потеряв из виду, озирались,
еще не принимая ирреальность,
молили звери, человека звали.
Он уходил все дальше,
с каждым шагом
себя к ним непонятно приближая.
…Идя на крест: «Земля суть в форме
шара»,—
он успевал записывать в скрижали.
С креста срывался, убегал и снова
к ним приходил устало
днем весенним,
гусиный от привычного озноба,
Придумали названье («Воскресенье»)
его периодичным возвращеньям.
Привычно предлагали чашу кофе,
и, передав привет от Саваофа,
согревшегося грешника вели
брать штурмом неприступную Голгофу,
К распятию привычно притыкали,
садились на опилки, отдыхали
и слушали неправильную речь,
вполне прилично затаив дыханье.
А он с креста вещал свое обычное,
не проповедь — заученная лекция,
язычники внимали безъязычно,
в них тыкались заочные рефлексы.
«Толпа — основа, личность —
только флексия,
а правильней — предлог
толпе развлечься, —
подумал он,—
когда опять я буду,
не позабыть бы поменять трибуну».
Забудет.
Ночью он срывался снова:
и уходил в бега по мерзлой тундре,
и белые арктические совы
крылами грели, когда было туго.
Запутались в ногах пути-дороги,
в синь рек он окунал ладьи-пироги,
и на прицел варяжин брал его.
«О, блюдный сын» — он называл его.
Бурана космы по полю мели,
и люди черные его вели
к кресту пылающему: «Обогрейся,
сын Блю и Блюда —
неба и земли».
…Брел налегке, забот в суму не брал,
(«грехи где оставлял? в исповедальнях?»)
Но почему сутулишься, мой брат?
Легли морщины на анфас медальный.
Пора и мне в дела твои вмешаться:
рефлексовать толпу заставить хочется.
Толпа, скажите, каково —
лишаться?
Вы чувствуете драму
одиночества?
Распнув его, что, кроме облегченья
и ощущенья некой пустоты,
вы чуете в себе? Вы — облачение
его гусинокожей наготы.
Он забивался в гущу бытия,
в чащобы сумеречного былого,
чтобы согреться.
Может быть, и я
костры тепла в толпе раздую
снова.
Я вижу, он опять бредет,
сюда же.
Тропа его
в траншею превратилась,
по шею погрузясь, идет, судяше
грехи свои,
а нам даруя милость.
«Предтеча,— позову его,— предтиче,
первоучитель, время возродить
жизнь в скопищах!»
И он ответит тихо:
«Что жизнь? Всего лишь — повод побродить».