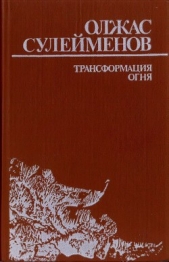Десять лет тому,
иль сотни лет?..
Хруст салфеток,
мягкий блеск фарфора.
Все встают,
в бокалы льется свет,
на стене краснеет тень узора.
Все стоят. Все ждут:
мы молча пьем,
торопливо, жадными глотками.
Горько! И посуду — кверху дном.
Слезы — рукавами,
не платками.
…Через сотни иль десятки лет?..
Хруст салфеток, мягкий блеск фарфора.
Все встают.
В бокалах тот же свет,
жизнь не может длиться без повтора.
Все стоят, все ждут.
Сейчас, сейчас…
Сколько мы гостей к себе назвали!
Раньше вас,
я выпью раньше вас!
Пусть вино меня, как раньше, свалит!
Где-то ты стоишь
бледна, бледна.
Может быть, ты вспомнишь
наш обычай.
Пусть вокруг — они,
Но ты — одна
выше всех
улыбок и приличий;
пей, не жди,
пусть — к черту этот пир!
Одинокий миг не потревожит
новый мир.
А прошлый?
Прошлый мир
на мгновенье раньше нами прожит.
I
В феврале (да, кажется, в феврале) пустыни
превращаются в красное море. Маки.
В марте пески покрываются травами,
даже верблюжья колючка еще не колючка —
мягка, зелена, и мясистые листья росой
на изломах исходят.
В мае зной выжигает траву до песка,
и виднее овечий помет в раскаленной
пыли.
И лишь зеленый чай
на донышке пиал
напоминает мне,
чтоб я не вспоминал,
и черная вода
на дне сухих колодцев,
напоминает мне,
что мир и желт
и ал.
II
Парит коричневый орел,
приветливо качая клювом.
Я возвращен, я приобрел
вновь мир, который меня любит.
Оцепенев, глядит змея,
стесняется.
Здорово, поле!
Любой тушканчик за меня
и жизнь готов отдать
и боле.
Нет лишних в драме,
все — на сцене,
и знает доже воробей,
мир без него неполноценен.
Поддакивает скарабей.
Он ходит задом наперед,
мой жук навозный,
его любят,
его никто не упрекнет,
случайно разве что
наступят.
Спокойно здесь и без вина,
без отрицания былого.
Встречаются, как слух и слово,
сливаясь в вечность, времена.
В песках поспешности закон
увековечен черепами,
здесь понимаешь:
прав Зенон —
мы не догоним черепахи.
И потому живи и спи,
не торопи заботой вечность,
прямая — это только Пи,
направленная в бесконечность.
И не пытайся измерять
круг
суммой абсолютных чисел,
и не пытайся все понять,
иначе все теряет смысл.
Слезами лет орошены,
овеяны столетий пылью,
мы плохо выучены былью,
легендами развращены.
А за Отаром — поезда,
один из них — мое отчаянье,
не дай мне. Боле,
опоздать,
закономерно
и случайно.
Ну дай мне, Боле,
все понять,
а если это невозможно,
и если это в вашей воле,
простите,
Боле.
Я в Лувре видел слепого.
Один, никого не спрашивая,
бессловно
глядел он
пустыми глазницами на Венеру.
Так смотрят на черное
негры.
Скрипели! Скрипели паркеты в залах.
Слепой стоял у громадных рам.
Он чем-то видел.
Рубцами ран? Лицом?
Довольно гадать: слезами.
Ходил от одной картины к другой,
словно листал, шел тише, тише,
и стал,
и долго стоял слепой
перед пустой нишей.
Глины.
Глины пятицветной — залежь,
кустики джусана, тамариск,
и барханы желтые, как зависть,
к Сырдарье, качаясь, прорвались.
Задавили город Шардару,
поделили ханские наделы
и глядят, глядят на Сырдарью,
на твою последнюю надежду.
…Били бубны, и звенел курай,
в стены клали свежую дерницу,
бог луны благословил твой край,
я нашел в кувшине горсть пшеницы.
Вот на камне выбита строка,
звенья глиняных водопроводов,
изменила городу река,
и ушли бродяжничать народы.
А в другом кувшине —
вот оно!
Зря мои ребята лезут с кружками,
режу на квадратики вино,
крепкое, увесистое, хрусткое.
Старики, я получил дары,
возбужден тысячелетним градусом.
Океаны в глине Шардары!
Режь лопатой, находи и радуйся.
…Радость захоронена в степях,
может, глубоко,
а может, рядом,
мы живем и познаем себя
по закону сохраненья
радости!
Может, был я посохом хаджи,
может, был я суслом
для наливки,
может, на губах я не улыбку —
женщину таразскую ношу.
Может,— первым зернышком
маиса,
первым клином
первого письма,
Родины мы были просто
мыслью,
помогавшей вам
сходить с ума.
О, всегда мы возникали вовремя!
Морем —
в самых неморских местах,
ради родин забывая родину,
родину, утопшую в песках.
Мы вернемся,
если не забудем,
гордостью, чинарой,
чем еще?
Может, просто ветерком
попутным —
парусником моря Мырза-щель?
Не задумано мое хотенье.
По закону сохраненья
дум
я в тенистый Мырза-щель не тенью,
ясностью осознанной приду.
Сантиметры в полотне найдутся.
Грустной охрой улыбнись, маляр.
Мырза-щель, смущенная натурщица,
родина последняя моя…