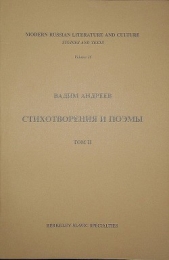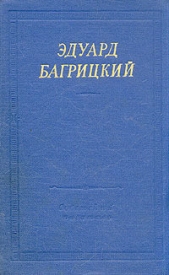«На росистой земле удлиненная тень…»
На росистой земле удлиненная тень,
— Это сердце мое все расстаться не может
С утомленной землей, и измученный день,
Уходящий, — его, как и прежде, тревожит.
Скоро солнце коснется заветной черты,
Скоро вечер раскроет тяжелые листья,
От дыханья ночного не звезды — цветы —
Станут в небе огромном еще серебристей.
С наслажденьем я жадной коснусь тишины —
Да, там даже кузнечиков нет и в помине, —
Как сухие стрекозы встревожатся сны,
И любовь затвердеет и сердце остынет.
Да, но все же я весь никогда не усну:
Там, где нашей вселенной ночная основа,
Сквозь петлистые корни и сквозь тишину
Прорастет ослепленное радостью слово.
1945
«Безмолвно тяжелела в проруби вода…»
Безмолвно тяжелела в проруби вода
И водяному Богу не молилась,
Но вот далекая, морозная звезда
В холодном шелке отразилась.
Вода приветствовала белую звезду
Чуть слышным вздохом и чуть слышным плеском,
И вспыхнул изнутри родившийся во льду
Ответный свет — темно-зеленым блеском.
И в новом мире — изумрудно-голубом
Привычные исчезли изваянья,
И все подернулось, — не думай, нет, не сном,
Не льдом, а ясным, как огонь, сияньем.
Душа была темна, все строже и тесней
Ее сжимали жадные морозы,
Когда, как в зеркале, вдруг отразились в ней
Раскаянья сияющие слезы.
«Прославим жизнь — ее сухую горечь…»
Прославим жизнь — ее сухую горечь,
Ее томительную власть.
Прославим жизнь и женственного моря
Всепоглощающую страсть.
Холодный воздух губы жжет и режет,
И в радуге соленых брызг
Гремит прибоя вой и камней скрежет,
И ветра исступленный визг.
Прославим жизнь, ее завет железный,
Ее испытанный язык:
В пустыне аравийской ночью звездной
Чуть слышно плещущий родник.
В часы, когда для боли нет исхода
И лицемерно смерть молчит,
И лживою становится свобода —
Она твой меч, она твой щит.
Прославим жизнь, — чем наши дни короче,
Чем явственней ее конец,
Тем с большим мужеством грядущей ночью
Мы встретим отдых наконец.
1946
«Две колеи проселочной дороги…» [14]
Две колеи проселочной дороги,
Две неразлучные сестры
С трудом всползают на откос отлогий
Как бы приснившейся горы.
Но вот, когда достигнем мы вершины
И нам захочется взглянуть
На милые дома родной долины,
На пройденный по склону путь,
Мы вдруг поймем с печальным изумленьем,
Что кряж остался позади,
Что нет возврата к прежним обольщеньям,
Что ночь сгущается в груди.
О, в этот день не будем малодушны:
Вечерний мир еще нежней,
Еще прекраснее, еще воздушней
Сиянье розовых теней.
1947
ИЗ СБОРНИКА «ЗЕМЛЯ» (1948)
«Ручей струится по камням…»
Ручей струится по камням.
Раздвинув ивы и ольшаник,
К его серебряным лучам
Склонился утомленный странник.
Как бабочку, лист золотой
Палящий ветер вьет и гонит,
И стынут в неге ключевой
Разгоряченные ладони.
Как различить — кастальский ключ
Иль ключ забвенья пред тобою?
И здесь и там летучий луч
Равно сливается с волною.
Но если по ошибке ты
Напьешься серебром забвенья, —
Да будут ясны и чисты
Твои посмертные виденья.
Но и не помня о земле,
Забыв и радость и потери,
Ты все ж в потусторонней мгле
Останешься земному верен.
Так на земле, средь суеты,
В минуты счастья или муки,
Не слыша, все же слышишь ты
Летящие из пустоты
Испепеляющие звуки.
1947
«Ясен мир, ясна природа…»
Ясен мир, ясна природа.
Высока и глубока
Золотого небосвода
Неподвижная рука.
И в протянутые руки
Осыпает звонкий лес
Листья вязов, точно звуки,
Точно капельки небес.
И в душе небесных листьев
Расстилается узор —
Золотистый, чистый, чистый,
Солнцем вышитый ковер.
1947
«О, если б я вполне очистить мог…»
О, если б я вполне очистить мог
От красок чувственных поля и рощи,
Среди житейских, ветреных тревог
Я стал бы и бедней и много проще.
И слух замкнув, в слепую тишину
Я сердцем бы, как в воду, погрузился,
И сам в себя, в ночную глубину,
Как блудный сын, я возвратился.
И жизнь вполне осмелившись забыть,
Я б все же жил, телесному не внемля, —
Тогда, — тогда впервые, может быть,
Я б ощутил мою родную землю.
1947