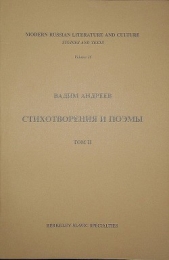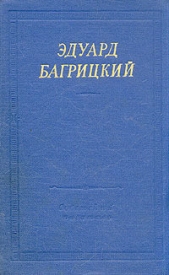«Сквозь полутишину ночного дома…»
Сквозь полутишину ночного дома,
Сквозь тиканье будильника, сквозь сон,
Ко мне подходит то, что было мне знакомо,
Чем был я целый день незримо окружен.
Звенят пустые чашки на буфете,
Мечтают вилки о земной еде,
Наплакавшись, заснули в спальной дети, —
Ночная тишина повсюду — и нигде.
Но вот теперь, когда, казалось, пальцы
Могли ощупать мысли и дела, —
Остановила жизнь свои слепые пяльцы
И, ничего не вышивая, замерла.
1948
Защитникам Иерусалима («Мухи и майское солнце, и зной…»)
Мухи и майское солнце, и зной.
Здесь, в катакомбах, печет, как в духовке.
Своды потрескались над головой
От изнурительной бомбардировки.
В щели врывается ветер и пыль,
Кружится в острых лучах позолотой,
А в амбразуре праматерь Рахиль
Перед замолкшим стоит пулеметом.
Капли, насытив живое пятно,
Падают — с верхнего камня на нижний.
Пахнет убийством пещера. Темно.
О, до чего все тела неподвижны.
Но если самый последний убит,
Камни тогда — быть не может иначе —
Вдруг оживут и Стена зазвучит
Эхом — тысячелетнего Плача.
1948
«Нет, смерти быть не может, нет…»
Нет, смерти быть не может, нет.
Душа и смерть — ведь это несовместно!
Едва погаснет день, как новый свет
Зажжется там, в той бездне бестелесной.
И струйками взволнованных лучей,
И ласковым, почти бесплотным плеском
Насытит сердце он еще верней,
Чем тот, что нас томил угрюмым блеском.
1948
«Мне кажется порой, но я отнюдь…»
Мне кажется порой, но я отнюдь
Настаивать, любимая, не смею,
Что ты невозвратимое вернуть
Задумала. Зачем? О нет, я не жалею
Того, что было, что прошло и вновь
Уже по-прежнему не повторится.
Оставь мечты и сердце приготовь
К отлету дальнему. Оно, как птица,
Боится холода и голода зимы,
Той тишины, которая с годами
Войдет, — как ни противились бы мы, —
И встанет, добрый друг мой, между нами.
А я, — я не боюсь. Мне полусвет
Осеннего существованья дорог.
Что из того, что пламени в нем нет, —
Ведь всякий, кто довольно дальнозорок
Увидит в нем такую благодать,
Такую нежность и такое счастье,
Что вовсе не захочет вспоминать
Того, что было горечью и страстью.
1948
«Ни месяца, ни звезд, ни даже неба нет…»
Ни месяца, ни звезд, ни даже неба нет
Язык свечи бросает луч украдкой
И озаряет там, в окне, пугливый свет
Листы дерев, играющие в прятки.
От колыханья серых листьев, оттого,
Что на себя не можешь положиться,
Я твердо знаю — нет страшнее ничего,
Чем предо мной лежащая страница.
Она пуста, она бела, и все-таки она
Для нас с тобою очень много значит:
Угрюмая, квадратная, она полна
Предчувствием грядущей неудачи.
О если б подменить сей белый лист я мог
Листом древесным на одно мгновенье,
Я б выдал то, что на листе наметил Бог
За новое мое стихотворенье.
И в паутине жилок, в ржавчине краев,
В едва заметных желтоватых пятнах
Нашла бы ты следы таинственные слов,
Потерянных и ныне непонятных.
1948
«Продолговатый лист растущей кукурузы…»
Продолговатый лист растущей кукурузы
Воронкой свит не для красы,
А для того, чтобы заботливая муза
В него роняла капельки росы.
И в зной, когда шуршат под ветром желтым стебли,
Не может раскаленный шквал,
Как он ни рвет листы, как он их ни колеблет,
Разбить предусмотрительный бокал.
Сквозь каплю той росы лучи до дна проходят,
Но каждый луч преображен,
И он уж не мертвит, а в корни жизнь приводит,
Животворящим делается он.
Растенье смотрит в мир сквозь выпуклую воду
И, поглощая влажный свет,
Благословляет зной и знойную природу,
До смерти веря в то, что смерти нет.
1948
Шелковичный червь («Вся жизнь червя — листва, травинки, мох да плесень…»)
Вся жизнь червя — листва, травинки, мох да плесень,
Вся жизнь червя пройдет меж сучьев и коряг,
Но в некий срок на ветке он повесит
Свой легкий шелковистый саркофаг
И в нем умрет, и человек из тонких нитей,
Из кокона полупрозрачного соткет
Тот шелк, что для значительных событий
Купец на верхней полке бережет.
И ты, когда по гулким, по церковным плитам
Войдешь в другую жизнь, по-новому любя,
Почувствуй, — в подвенечном платье скрыта
Душа того, кто умер для тебя.
1948