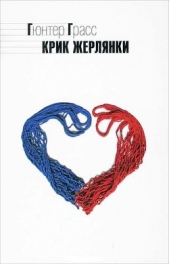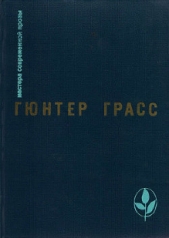Встреча в Тельгте. Головорожденные, или Немцы вымирают. Крик жерлянки. Рассказы. Поэзия. Публицистик

Встреча в Тельгте. Головорожденные, или Немцы вымирают. Крик жерлянки. Рассказы. Поэзия. Публицистик читать книгу онлайн
В четвертый том Собрания сочинений Г. Грасса вошли повести «Встреча в Тельгте» и «Крик жерлянки», эссе «Головорожденные», рассказы, стихотворения, а также «Речь об утратах (Об упадке политической культуры в объединенной Германии)».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При этом остров Мен богат собственными, доморощенными сенсациями. На широком лугу, тянущемся вплоть до самых дюн Балтийского моря, с утра до вечера царит оживленное движение в воздухе. Тысячи серых гусей делают здесь промежуточную остановку, упражняясь попутно во взлетах и посадках. Или вдруг серые цапли нарушат ленивый покой гусиных стай. Возникает продолжительный гулкий шум, который в конце концов затихает сам по себе. И небо над лугом, над дюнами, над морем всегда исчерчено пролетающими птичьими эскадрильями: письмена, способные — если их расшифруешь, — рождать легенды. Тут не обнаружишь никакого вздора на актуальные темы, зато в любой момент может приземлиться Нильс Хольгерсон, чтобы снова, под присмотром серых гусей, подняться навстречу новым приключениям.
Весь август небо оставалось почти пустынным, если не считать чаек. Сухое лето обезводило луг и, тем самым, вынесло запрет на взлеты и посадки на территории всего просторного аэродрома. Однако кризисы, судя по сообщениям радио, не заставили себя ждать. Словно с нарочитым параллелизмом разворачивались одновременно два события; спортивные победы и поражения в Барселоне, например, на отборочных соревнованиях в беге на сто метров у мужчин или в прыжках в высоту у женщин, как бы служили комментарием к ежедневным цифрам погибших в Сараево. Олимпийские игры проходили в Боснии; олимпийский стадион находился в пределах досягаемости сербских гранатометов. Новости набегали одна на другую, перекрещивались, сливались. Одновременные события выдавали себя за равнозначные. Здесь считали медали, там — потери. И на фоне олимпийских восторгов ужас отступал куда-то на задний план как незначительное, второстепенное действие. Молодой, охочий до путешествий литератор мог бы — как я себе воображаю, — оказаться одновременно и здесь и там и с помощью слов, совмещающих время, создать эпический обзор: снайперы и фехтующие дамы, скандалы вокруг допинга и прорывы блокады, сокращенные национальные гимны и семнадцатое безрезультатное перемирие, фейерверки здесь и там…
Но в мою тетрадь попали лишь записи о Германии. Ох уж эта проклятая оседлость с ее свинцовыми подметками! Мы на своем острове серых гусей, который на сей раз не мог предложить нам ничего, чтобы отвлечься, все же пытались уйти от помех кризисного месяца; в конце концов, кругом было полно ежевики и ежедневно на обед — свежая рыба. Но даже между уставившихся в разные стороны мертвых глаз на отрезанных головах камбалы — завернутых во вчерашнюю газету, — на нас смотрели напечатанные мелким и выделенные крупным шрифтом слова: Югославия, эта сплошная гигантская мина, и Олимпийское золото, присужденное четверке без загребного. Потом мы ели под датским небом безголовую камбалу, поджаренную на сковородке; это было в начале августа.
Что делает чувствительных людей столь равнодушными? Легко ранимые, мы становимся такими безучастными. Слишком много всего, говорит даже священник с церковной кафедры, происходит одновременно. Теперь выясняется, что сверхизобилие информации повинно в том, что общество — будучи сверхинформированным — живет так, словно вообще не получает никакой информации. Или люди садятся — каждый — на своего излюбленного конька: для одного это озоновые дыры, для другого — страхование, обеспечивающее уход за больными в старости. Кто слишком долго стенает по поводу ужасного положения боснийских беженцев, забывает помянуть в своих стенаниях Сомали и ежедневную голодную смерть множества людей. Может, мир трещит по швам, а может, как нередко в последнее время, всего лишь биржа сошла с ума?
Когда торжественно завершились Олимпийские игры, на какое-то время Сараево бесспорно выдвинулось на передний план, и было крайне неприятно, что разнообразнейшие второстепенные театры военных действий отвлекают мир от несостоятельности европейской политики. Но даже этот позор, из-за которого Европа предстала всего лишь химерой, вскоре оказался не чем иным, как привычным общим местом. Однако потом пришли известия из Германии и подтвердили, что август — месяц кризисов.
Собственно, ничего нового, все старье, только в более грубом варианте. Свыше пятисот правых экстремистов снова напали на общежитие беженцев в Ростоке, в районе Лихтенхаген. Из окон соседних домов граждане наблюдали за происходящим и аплодировали, когда наступающие громилы стали швырять камни и бутылки с зажигательной смесью. Потом граждане могли увидеть на экранах своих телевизоров, как они наблюдают за происходящим и бьют в ладоши; некоторые узнали себя.
Собственно, все это уже было знакомо: в Хойерсверде и других местах уже происходила демонстрация силы по западногерманскому образцу. За минувшие месяцы было хорошо усвоено, как превращать ненависть к иностранцам в насилие. И на сей раз полиция с полным сочувствием отнеслась к столь компактному народному волеизъявлению и предпочла держаться в стороне. Несколько позднее полицейские с тем большим усердием принялись вылавливать левых демонстрантов, организовавших митинг протеста. Нельзя допустить эскалации событий, было заявлено публично. Из нашего приемника неумолчно доносились голоса политиков, пытавшихся превзойти друг друга в предмете, именующемся озабоченностью.
Но потом вмешалась заграница, потому что на экранах телевизоров и на фотографиях в прессе появлялось все больше сожженных эмигрантских общежитий. Запечатленный дикий рев, растиражированный по всему свету. Вновь был открыт «отвратительный немец». И уже ничто не могло отвлечь от этого открытия, ни Олимпиада, ни Кабул, ни Сараево. Всюду жирным шрифтом было напечатано: РОСТОК. А я, отдыхая на датском острове, делал записи об этой поездке; привычное для меня убежище — рукопись с ее эпически разветвленными подземными ходами для бегства — было засыпано. Произошло нечто, имеющее исключительное значение.
С тех пор Германия переменилась. Хойерсверду еще удалось кое-как, плутовскими методами, загасить в общественном сознании. Но со времен событий в Ростоке все заверения эпохи блаженства, вызванного объединением, оказались абсолютно дискредитированными. Тот ликующий, раздутый на страницах культурных разделов прессы невероятный триумф, возвещавший окончание послевоенного периода и новый «час нуль», то праздничное настроение, поднявшее на пьедестал объединенную Германию, заслужившую — благодаря освобождению от груза прошлого, отброшенного наконец за давностью лет, — новой главы истории, которую надлежало создать и подготовить к печати — притом десяток усердных написателей истории уже стоял в полной боевой готовности с отточенными перьями наперевес, — эта еще три года назад вызывавшая отвращение публицистическая проституция присмирела и сбавила тон, потому что прошлое вновь похлопало нас по плечу, вновь выявив среди нас преступников, попутчиков и молчаливое большинство.
Это не значит, что страх заставил нас умолкнуть. Громко прозвучали протесты, появились подписи под заявлениями и обращениями. Огромное количество людей, собиравшихся на митинги, еще недавно должно было подтвердить нашу способность к сопротивлению; но та политика, которая ведется на протяжении последних трех лет и которая ответственна за ставшее явным новое падение в немецкое варварство, осталась непоколебимо верна себе; снова право индивидуума на убежище — главное украшение нашей конституции! — становится объектом спекуляций, дабы ублажить народный дух, которому надлежит быть хронически здоровым; снова процесс объединения без единства выливается в повторяющееся, на сей раз деклассированное разделение, и снова ни правительство, ни оппозиция не желают или не способны покончить с бесстыдной распродажей имущества несостоятельного должника, банкрота ГДР и вместо этого осуществить действенную компенсацию ущерба.
Это было бы справедливо с самого начала и по сию пору, ибо подвергавшиеся эксплуатации, замурованные стеной, вечно находившиеся под слежкой и под навязчивой опекой государства, граждане ГДР, оказавшиеся в убытке, вынуждены были платить более сорока лет, платить и приплачивать вместо ФРГ. Им не было предоставлено счастье выбора в пользу западной свободы. И что особенно несправедливо: не мы за них, нет, они за нас вынесли основную тяжесть проигранной всеми немцами войны. Понимание этого должно было стать решающим сразу же после падения стены. Именно это — а не новая назойливая опека — было нашим долгом перед ними.