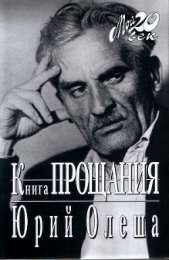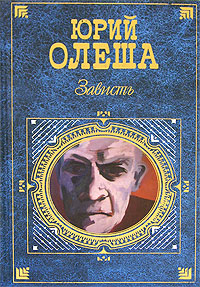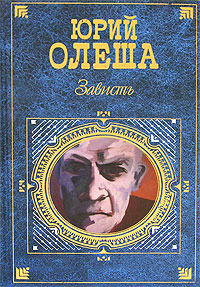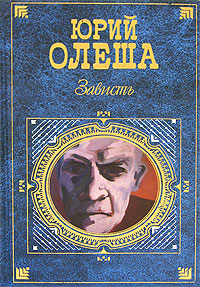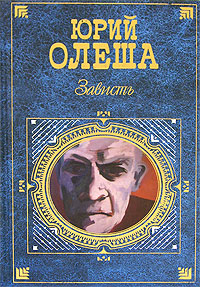Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний "

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний " читать книгу онлайн
Работа над пьесой и спектаклем Список благодеяний Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы великого перелома (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция Списка (первоначально Исповедь ), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг Списка благодеяний, накал которых сравним со спорами в связи с Днями Турбиных М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Леля молчит.Вы молчите. Я не собираюсь просить у вас прощения, потому что не чувствую себя виноватым. Напротив. Я даже думаю, что вы поступили бы справедливо, если бы, вместо того чтобы сидеть неподвижно, как истукан, выразили мне чувство благодарности. Своим фельетоном я успокоил бурю, которая терзала вашу душу. У вас была тетрадка, разорванная надвое. Так? Вас было две. Теперь — вы стали едины: мысль и ощущение образуют гармонию. Вы всей душой против советского режима, как и весь мир.
Леля молчит.Скажите мне спасибо, Елена Николаевна. Прекрасная женщина может выразить благодарность чем угодно: взглядом, взмахом ресниц, одним движением руки. Я начну вам говорить комплименты, чтобы расшевелить вас. Вы, конечно, горды… Вы чувствуете историческую миссию на себе. Шарлотта Корде. Не правда ли, Елена Николаевна? Но я думаю, что комплименты действуют на всех женщин без исключения. Шарлотта Корде была прекрасна. Палач, месье де Пари, плакал, пуская нож на ее лебединую шею. Она пришла убивать Марата, когда тот сидел в ванне. Но я думаю, что ей было бы гораздо приятнее, если /бы/ Марат пришел к ней сам, а она в это время сидела бы в ванне…
Леля молчит.Если вы не хотите разговаривать, то зачем вы пришли ко мне?
Леля. Я пришла вас убить.
Татаров. Ну вот, видите. Это совсем нехорошо. Вот до чего довела вас психика. У всех советских мания убийства. Вам надо в больницу лечь. Конечно, если бы у вас были деньги, лучше всего поехать на юг. Приморские Альпы, перемена впечатлений… Ах да, простите меня, Елена Николаевна, вам следуют деньги.
Леля. Сколько?
Татаров. Я еще не получил гонорара за этот фельетон. Фактически вы водили моей рукой, когда я его писал. Половина гонорара вам. Это выйдет десять франков. Гонорар выдают по средам.
Леля молчит.Я могу дать в долг вам до среды.
Пауза.Вы не расхворайтесь. Возьмите себя в руки. Европеянка должна строить свою психику на триаде [232]: спорт, гигиена, комфорт. Тогда ваша психика станет победоносной. Как прекрасны европеянки! Они сверкают, как ящерицы.
Пауза.А она все молчит, а она все молчит. Сбросьте с себя извечную скуку русской женщины. Может быть, вас обидели в посольстве? Пытали? Да? Половину языка вырвали? Вы знаете: можно написать о вашем визите в посольство. Ведь посол — педераст [233]. Ведь он не обратил на вас никакого внимания как на женщину. Он педераст. Окружил себя молодыми красавцами. Но человек он безвкусный и хочет удивить Европу только тем, что он — педераст. Как будто Европу можно удивить этим.
Леля молчит.Если вы будете молчать, я тоже буду молчать. Будем молчать оба. Ну, Елена Николаевна. Ну, встряхнитесь же. Ведь самое страшное прошло. Это — как корь, этим надо переболеть.
Леля молчит.А, ей-богу, чепуха. Глупо вы себя ведете. Ну, как хотите… Ну, я ухожу. Мне некогда. До свиданья, Елена Николаевна. (Протягивает ей руку.)
Она бессмысленно протягивает ему свою.Ну вот, видите. Значит, мы уже помирились. У вас чудные руки, Елена Николаевна. Можно мне поцеловать вашу руку?
Леля. Можно.
Татаров. Браво. Вот это уже по-женски. Можно еще раз? Нет, нет, я не хочу напрашиваться. Я ведь очень одинок и несчастен, Елена Николаевна. А может быть, когда-то, очень давно, на родине, вы были моей невестой. Помните: как часто это бывало — в прежней нашей жизни, в традициях литературы, в дворянской романтике, — как часто это бывало, что девочку, тринадцатилетнюю гимназистку, считали невестой взрослого человека… Острили, добродушно посмеивались… Помните? Ведь все забыто, и перевалились друг через друга, пересыпались трижды куски нашей жизни, как стеклышки калейдоскопа, мы забыли лица сестер наших, имена друзей… Кто пал в бою, кто расстрелян, кто сожжен мужиками, у кого отвалились гангренозные, отмороженные ноги, кто в Африке, в Иностранном легионе, кто в Аргентине пасет быков… Кто за двадцать франков продает свою душу… вот я жалкий репортер продажной газеты… Бедная, несчастная родина наша. Где изгороди прошлого? Цветущие клумбы дач… именины… Вспомните, Елена Николаевна. Может быть, я в майский день, в белом кителе, в небесной студенческой фуражке приезжал на велосипеде на дачу, и вы сбегали мне навстречу, барышня в белом платье, вся в руладах Шопена… девственница… невеста… Вспомните. Вот, на русский лад вы настроили меня… Так долго я выковывал из себя европейца, выбрасывал из души все эти надрывы, всю эту так называемую широту… Новы такая русская, вся поэзия цветов и запахов родины заключена в вас… и, куда к черту, слетает с меня мой европеизм. Я тоже хочу домой, Елена Николаевна. Мы вернемся в Россию, мы увидим еще, как будут заживать раны ее, мы еще будем с вами целовать землю родины, русскую землю, /политую/ кровью лучших сынов ее: юнкеров, кавалергардов, молодых красавцев, павших за великую Россию. Мы должны ждать, стиснув зубы, ждать.
Леля встает.Куда вы? Нет, нет. Я не пушу вас. Вы сами разложили меня, как выражаются у вас. Не уходите, Елена Николаевна… Что же я, останусь один плакать, пить водку… Ну, прошу вас. Как вас зовут там… дома?
Леля. Леля.
Татаров. Останьтесь, Леля.
Леля. Я ухожу.
Татаров. Куда?
Леля. Домой.
Татаров. Куда, в пансион? У вас нет денег.
Леля. В Москву.
Татаров. Как?
Леля. Пешком.
Татаров. Вы вне закона.
Леля. Если я приду… через всю Европу… с непокрытой головой… прямо в театр… на Триумфальную площадь… днем. И скажу общему собранию… (умолкает).
Татаров. Я никуда вас не пущу. Я старше вас… Вам отдохнуть надо. Отлежаться. Ночью, в таком состоянии. Вы с ума сошли… Вы бредите, у вас психика расстроена. Раздевайтесь, ложитесь, это абсолютно здравое предложение. Я здесь буду спать, на диване. В Европе священны обязанности хозяина и права гостей. К черту русскую расхлябанность. Будем европейцами. Ложитесь, не стесняйтесь. Я задерну занавеску. Только разденьтесь, это русская привычка спать не раздеваясь. Не брезгайте моей постели. Говоря высокопарно — это скорбная, но чистая постель изгнанника. Ей-богу, вы заразили меня своей манерой говорить. Тоже русское: «от пирующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови — уведи меня в стан погибающих за великое дело любви» [234]. Чепуха. Спите, девочка. (Задергивает красную, мутную байковую занавеску. Остается на первом плане). Нужно всеми силами выкорчевывать из своей психики русские корни. Несчастная страна. Здесь врут некоторые, побывавшие у вас, что у ваших девушек какие-то особенные, сияющие улыбки. Что девушки ваши умеют шить платья из тряпочек. Что ваши женщины простаивают в очередях и остаются красивыми. Что у ваших матерей какие-то замечательные, толстые, смышленые дети. Что у всех русских какая-то непонятная гордость. Разве можно не иметь ничего за душой и в то же время оставаться гордым? Не понимаю. Вы легли? В Европе женщина — все. Культ. Вы знаете, если бы в ваших советских журналах печатали голых девушек, как у нас, — то, ей-богу, — ваши ударные бригады работали бы с большим воодушевлением. (Начинает раздеваться понемногу). Вы пуритане. Пуритане. Форменные пуритане. Здесь женщина — прекрасное изделие, сосуд, если угодно, — прибор, аппарат, тончайший аппарат для наслаждения. Смотришь на европеянку и не понимаешь — что это: произведение великого ювелира, чеканщика, Бенвенуто Челлини, или это прекрасное насекомое… волшебно. Но зато как напряжено мужское половое вожделение… Здесь проститутка священна. Половой акт обожествлен. А русский бьет проститутку. Бьет, а потом кланяется страданию ее. Ерунда… Правда, Елена Николаевна. Достоевщина. Давайте без побоев и поклонения… Без достоевщины… Вы можете заблистать здесь… Леля… вас будут называть Лолита… Здесь вы актриса… Ля белль Лолита… Пустите меня к себе, Лилит. Можно? Ведь вы были, может быть, моей невестой. Вспомните. Девственницей вы мечтали, может быть, обо мне. Вы не спите, Леличка? Можно к вам? (Открывает занавеску.)