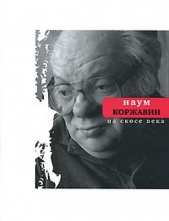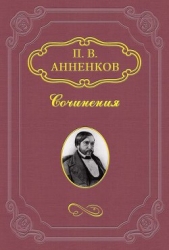От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа

От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа читать книгу онлайн
Центральная тема книги – судьба романа «сервантесовского типа» в русской литературе XIX—XX веков. Под романом «сервантесовского типа» автор книги понимает созданную Сервантесом в «Дон Кихоте» модель новоевропейского «романа сознания», в том или ином виде эксплуатирующего так называемую «донкихотскую ситуацию». Уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций. Поэтому читатель найдет в книге главы, в которых речь идет также о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе», о новоевропейской утопии, об эпистолярном романе, немецком «романе воспитания», французском психологическом романе. Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрей Белого, в России послереволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, прозой А. Битова, наглядно демонстрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным трансформациям.
Книга адресована критикам и литературоведам, всем интересующимся теорией и исторической поэтикой романа, русским романом в западноевропейском литературном контексте.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И далее повествование в трилогии Сологуба то почти дословно приближается к тексту романов Гёте о Мейстере, то далеко уходит от них. Так, если Гёте описывает праздник горнорабочих, подчеркивая мирное, созидательное мерцание огней их светильников в противоположность «извержению вулкана, чей искрометный грохот грозит гибелью целым областям» (227), то Сологуб в «Королеве Ортруде» изображает именно извержение, жертвой которого становится героиня. Это извержение, в свою очередь, сдублировано в развязке романа «Дым и пепел» – в сцене гибели в пожаре дома Триродова. Но гибель Ортруды – своего рода акт самозаклания – имеет тот же гностический «потайной» смысл, что и прохождение через огонь в романах Гёте19. Поджог дома Триродова – это лишь бессмысленный акт разрушения, демонстрирующий бессмысленность всяких попыток что-то изменить в судьбе Скородожа и всего мира, метонимически в нем отраженного.
Острова – средиземноморский рай, частично срисованный с Балеарских островов, могли бы заменить в трилогии Сологуба Италию – родину Миньон, духовную прародину Вильгельма-творца, общий отчий дом европейских народов (в «Годах странствий…» Вильгельм и его друзья какое-то время блаженно-счастливы в Италии на острове посреди горного озера): «В этой яркой стране сочетается фантазия с обычностью, и к воплощению стремятся утопии» (1, 199), – на этой ноте начинается рассказ о государстве Соединенных Островов у Сологуба. Но жизнь людей на Островах соединяют в себе два начала – средиземноморское и российское (выразителем последнего парадоксальным образом является германский принц Танкред – супруг Ортруды): российское – утопию разоблачает. Островная жизнь протекает не только в раю, но и на вулкане – и в буквальном, и в переносном смысле слова (Сологуб любит сюжетно разворачивать всякого рода литературно-журнальные штампы).
Разительнее всего механизм сближения / отталкивания двух художественных миров – Гёте и Сологуба – обнаруживает себя в подходе каждого из писателей к гамлетианской контраверзе – к теме смерти и теме бессмертия, друг без друга не мыслимых. Смерть в романах Гёте – даже если это смерть ребенка – Миньон, прекрасного мальчика Адольфа – естественна, но не безысходна. Она есть и – ее нет. Для Гёте бытие едино. И оно все – реальность, все – явь и все – жизнь. Погибающая красота претворяется в красоту творений рук человеческих. Взрослый, прошедший ученичество, «отрекающийся» Мейстер открывает для себя истину: «Кто жил, в ничто не обратится! // Повсюду вечность шевелится // Причастный бытию блажен…». Смерть – как частность – входит в порядок бессмертного бытия. Поэтому прошедший все стадии воспитания-посвящения человек может обрести бессмертие, совместившись с целым мироздания20. Кроме того, человек может противостоять смерти и в пределах своих, человеческих возможностей. Так, Вильгельм, потерявший утонувшего в реке друга, решает стать врачом-хирургом, чтобы научиться делать кровопускание, а в остальном полагается на «волю Божью».
Именно «волю Божью» и отказывается признавать Триродов, присваивающий себе власть и убивать (правда, ее он использует единожды, и то «условно», превратив приговоренного товарищами к смерти предателя Дмитрия Матова в кристалл21, из коего тот в любой момент может быть освобожден по воле мага), и воскрешать умерших. Но магия Триродова отнюдь не устраняет смерть из жизни, а лишь демонстративно стирает границу, разделяющую две – с точки зрения Сологуба (и его идейного наставника Шопенгауэра) – иллюзорно разделенные области бытия. Триродов (а вместе с ним его создатель) живут одновременно в мире живых и мире мертвых, соединенных «навьей тропой», в мире яви и в мире сна, в фантазии и в реальности, неслиянных, но и нераздельных: «Ужасен раздвоенный лик подлинного бытия» (1, 155).
Наконец, по-своему схожи и противопоставлены Авторы-творцы двух художественных миров. Поэт, герой стихотворения «Завет», помещенного в «Годы странствий…» после второй книги, – тот, «кто создает, толпе незримый, // своею волей мир родимый…» – чувствует себя причастным к благодати, к жизни во всех ее проявлениях. Он – не одинок и создает «мир родимый», неотделимый от жизни как таковой, чтобы свой дар «доверить братьям» (272). Поэт-Демиург, словами которого открывается трилогия Сологуба22: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт» (1, 7), – воздвигает свою легенду для себя одного, подчиняя игре своего воображения все художественное пространство трилогии: городок Скородож на реке Скородень, как бы реальная российская провинция, на самом деле – такая же сказочная тьмутаракань, как Соединенные Острова, а Соединенные Острова столь же условно реальны, как и любое, отраженное в зеркале заграничной прессы, южно-европейское государство: в нем правят не имеющие реальной власти короли и королевы, министры плетут интриги, думают только об обогащении, а народные вожди готовят революцию. В зеркале Островов отражается Россия. В зеркале России – Острова. Они – рядом. В одном измерении бытия. Под звездой-драконом Солнце. Не под звездой Маир.
М. Бахтин в незаконченном труде, опубликованном под условным названием «Роман воспитания и его значение в истории реализма» (раздел «Время и пространство в романах Гёте»)23, писал о средневековом романе, которому хотел противопоставить реалистический «роман воспитания», одним из творцов коего стал Гёте – автор дилогии о Мейстере: «…потустороннее и фантастическое восполняло бедную реальность, объединяло и закругляло в единое целое клочки реальности. Потустороннее дезорганизовывало и обескровливало эту наличную реальность… Потустороннее будущее, оторванное от горизонтали земного пространства и времени, воспринималось как потусторонняя вертикаль к реальному потоку времени, обескровливая реальное будущее и земное пространство как арену этого реального будущего, придавая всему символическое значение, обесценивая и отбрасывая все то, что не поддавалось символическому осмысливанию» (224). Нельзя избавиться от ощущения, что эта бахтинская оценка средневекового рыцарского романа косвенно нацелена на роман символистский, на «Творимую легенду» прежде всего. То есть она по-своему также иносказательна, аллегорична.
Как аллегоричен архижанр «мениппея» (вот уж где мир выстроен не столько по горизонтали, сколько по вертикали!), в том числе его образцовое воплощение – комический эпос Рабле, который сам автор представлял читателю следующим образом: «А случалось ли вам видеть собаку, нашедшую мозговую кость?. По примеру вышеупомянутой собаки вам надлежит быть мудрыми, дабы унюхать, почуять и оценить эти превосходные, эти лакомые книги… После прилежного чтения и долгих размышлений вам надлежит разгрызть кость и высосать оттуда мозговую субстанцию, то есть то, что я разумею под этим пифагорейским символом, и вы можете быть совершенно уверены, что станете от этого чтения и отважнее и умнее, ибо в книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным учение, которое откроет вам величайшие и страшные тайны…»24.
Разве не та же установка пронизывает и дилогию Гёте, воплощаясь в «Годах странствий…» в «пифагорейском символе» ларца, найденного Феликсом в глубине горной пещеры25? Ведь роман Гёте (здесь Бахтин вынужден сделать существенную оговорку) «все еще включает в себя символические и утопические элементы» (227). А также аллегорические – и не «элементы», а развернутые повествовательные конструкции.
Уже цитировавшаяся нами И. Н. Лагутина, известный русский специалист по Гёте, подчиняющая свой анализ прозы Гёте гётев скому же пониманию «символа», гётевскому методу воссоздания прафеноменов и отвергающая – вместе с Гёте – аллегорический модус повествования, не случайно готова вообще вывести «Годы странствий Вильгельма Мейстера» из собственно романной традиции26: ведь, как было показано на предыдущих страницах этой книги, символ как таковой, как вещь-знак, как осколок вечности, случайно ввергнутый в поток времени, не может быть основой для построения сколь-нибудь развернутого романного сюжета27. Иное дело – аллегория. Сформулированная уже цитировавшимся нами современником Гёте Ф. Кройцером концепция аллегории, реабилитированная и возрожденная в XX веке Г. К. Честертоном и С. К. Льюисом, В. Беньямином и Х. Л. Борхесом, Х.-Г. Гадамером и А. Флетчером, для понимания жанра последнего романа Гёте может иметь не меньшее значение, чем символическое учение самого писателя, который, начиная с 1797 года настойчиво – по разным параметрам – противопоставлял символ аллегории и всякий раз не в пользу последней. А – параллельно – создавал романы, нарративная целостность которых может быть смоделирована лишь на базе аллегорического модуса воссоздания действительности, парадоксального сочетания мимесиса и иносказания28, реализма и фантастики, подчеркнутой (визуально-зрелищной) изобразительно сти и концептуализма.