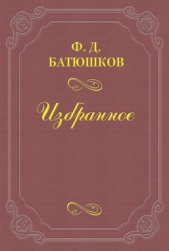Психология литературного творчества
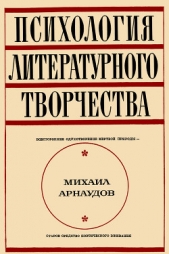
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с ребёнком, с мальчиком, — одинокие оба и вид у них у обоих такой одинокий. Мастеровому лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он нарядился по-праздничному: немецкий сюртук, истёртый по швам, потёртые пуговицы и сильно засалившийся воротник сюртука, панталоны «случайные», из третьих рук с толкучего рынка, но всё вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и галстук, шляпа цилиндр, очень смятая, бороду бреет. Должно быть, где-нибудь в слесарной или чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жесткое, почти злое. Ребёнка он держит за руку, и тот колыхается за ним, кое-как перекачиваясь. Это мальчик лет двух с небольшим, очень слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик, в сапожках с красной оторочкой и с павлиньим перышком на шляпе. Он устал: отец ему что-то сказал, может быть, просто сказал, а вышло, что как будто прикрикнул. Мальчик притих. Но прошли ещё шагов пять и отец нагнулся, бережно поднял ребёнка, взял на руку и понёс. Тот привычно и доверчиво прильнул к нему, обхватил его шею правой ручкой и с детским удивлением стал пристально смотреть на меня: «Чего, дескать, я иду за ними и так смотрю?». Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он нахмурил бровки и ещё крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большие» [693].
До сих пор — простой факт, зарисовка, случайное восприятие. Но здесь-то и начинается реакция на этот факт в духе писателя, невольное желание понять, разгадать и завершить то, что неполно дано в опыте. Достоевский имеет слабость или достоинство Бальзака играть на вживании: не случайно его любимым писателем на всю жизнь остаётся автор «Евгении Гранде», который оказал на него значительное влияние в замыслах и технике романов (апогей этого влияния достигнут в «Преступлении и наказании»), во всём, что указывает на зависимость Раскольникова от Растиньяка в «Отце Горио» [694]. Постигнув мастерство Бальзака в «Человеческой комедии», Достоевский обогащает свою собственную поэтическую интуицию его умением проникать в незнакомые души путём наблюдения и внутреннего созерцания. Так и в данном случае встреча с незнакомыми людьми, возбудившими интерес, даёт ему повод применить свой инстинкт художественного открытия. Он продолжает свой рассказ так:
«Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует. Про мастерового с мальчиком мне пришло тогда в голову, что у него всего только с месяц тому умерла жена и почему-то непременно от чахотки. За сироткой-мальчиком (отец всю неделю работает в мастерской) пока присматривает какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где они нанимают каморку, а, может быть, всего только угол. Теперь же, в воскресение, вдовец с сыном ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, к какой-нибудь единственной оставшейся родственнице, всего вернее к сестре покойницы, к которой не очень-то часто ходили прежде и которая замужем за каким-нибудь унтер-офицером с нашивкой и живёт непременно в каком-нибудь огромнейшем казённом доме, и тоже в подвальном этаже, но особняком. Та, может быть, повздыхала о покойнице, но не очень: вдовец, наверно, тоже не очень вздыхал во время визита, но всё время был угрюм, говорил редко и мало, непременно свернул на какой-нибудь деловой специальный пункт, но и о нём скоро перестал говорить. Должно быть, поставили самовар, выпили вприкуску чайку. Мальчик всё время сидел на лавке в углу, хмурился и дичился, а под конец задремал. И тётка и муж её мало обращали на него внимания, но молочка с хлебцем, наконец-таки, дали, причём хозяин унтер-офицер, до сих пор не обращавший на него никакого внимания, что-нибудь сострил про ребёнка в виде ласки, но что-нибудь очень солёное и неудобное, и сам (один, впрочем) тому рассмеялся, а вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие чего тому немедленно захотелось аа, и тут отец уже без крику и с серьёзным видом вынес его на минутку из комнаты… Простились также угрюмо и чинно, как и разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и приличий. Отец сгрёб на руки мальчика и понёс домой, с Выборгской на Литейную. Завтра опять в мастерскую, а мальчик к старушонке. И вот ходишь-ходишь и всё этакие пустые картинки и придумываешь для своего развлечения» [695].
Понятно, как писатель отталкивается от единичного факта, чтобы предаться предположениям, поясняющим факт, и это указывает на почти бессознательное стремление к сюжетной законченности в силу посторонних аналогий и воспоминаний или размышлений о неволе бедных городских детей, как в случае, описанном в этой главе дневника за 1873 г. [696]
И у Елина Пелина в его маленьких очерках «Чёрные розы» можем прочитать зарисовку с подобной же темой и также возникшую через посредство этого двойного элемента восприятия-повода, с помощью дополнительных образов, взятых из других воспоминаний и созданных воображением:
«Днём была прекрасная погода: солнце будто нарочно старалось согреть короткий осенний день, порадовать человека. Но оно скоро зашло, и притаившаяся в горах стужа сразу нагрянула в город. Лёгкий вечерний сумрак застыл под леденящим дыханием резкого ветра, налетевшего, словно разбойник, с окрестных гор.
С верха громадного строящегося здания в центре города спустился рабочий, закончив кладку последней дымовой трубы. Медленно-медленно сойдя по сходням громадных лесов в лабиринте досок и балок, он очутился на земле. Здесь его ждала жена, ещё молодая, но рано увядшая женщина в сером платье из грубой материи. Она тоже возвращалась откуда-то с работы. Они не обменялись ни словом. Накинув свой старый пиджачишко, он зашёл на минуту в дощатый барак, где помещалась контора хозяина, скоро вышел обратно, как это делали другие рабочие, и оба медленно тронулись в путь.
Сильно похолодало. Они шли молча, спрятав руки за пазуху, и, достигнув одного из окраинных кварталов, углубились в сеть грязных улочек.
Рабочий шагал, и ему казалось, что он всё спускается вниз по страшной сходне лесов.
Где-то там, впереди, их бедный, потемневший домишко. На пороге стоят трое-четверо бедных ребятишек, устремив нетерпеливый взгляд к повороту улочки. Они не ждут ни ласки, ни подарков. Но они жаждут видеть добрые глаза своей преждевременно состарившейся матери, хмурое лицо кормильца-отца.
Там не загорится в печке животворный огонь и весёлые отблески его не запляшут по стенкам: печку разводить ещё рано. На ужин — немного чёрствого хлеба, брынзы, стручкового перцу, луку. Все жуют медленно, старательно, с уважением к пище.
Работают и отец и мать. Они зарабатывают достаточно. Но боятся тратить. Дрожат. Их страшит будущее. Они полны вечного страха перед ним.
И в этом ожидании неизвестного завтра, которое не сулит им ничего хорошего, испуганные души их утратили всякую радость» [697].
Болгарский писатель со своими переживаниями и настроениями находит тот же способ открытия, о котором пишет и русский автор. Подобный переход от действительности к поэзии, от прямого или косвенного наблюдения к художественному вымыслу мы находим и в других местах «Дневника» Достоевского, например в главе «Столетняя», март 1876 г. Знакомая дама рассказывает Достоевскому о своей встрече со сто четырёхлетней старушкой, которая идёт, отдыхая у каждого дома, на обед к внучкам. Дама передаёт ему и свой разговор с этой старушкой на улице. «Выслушал я в то же утро этот рассказ, — продолжает Достоевский, —… и позабыл об нём совсем, и уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале и отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку, и почему-то мигом дорисовал себе продолжение о том, как она дошла к своим пообедать: вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая картинка» [698]. И Достоевский излагает эту «дорисованную» мигом и столь правдоподобную для него картинку прибытия старушки к своим внучкам, её разговор там и её неожиданную смерть. Так отходят миллионы людей: живут незаметно и умирают незаметно.