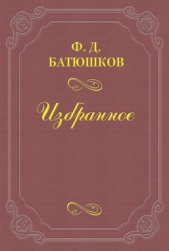Психология литературного творчества
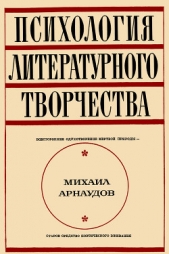
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Характеризуя творческую силу поэта и цитируя знакомую максиму «Nihil in intellectu quod non prius fuerit in sensu» [711], Реми де Гурмон говорит: «Воображение богаче памяти, но это богатство относится только к новым комбинациям, которые образуются из элементов, доставленных памятью. Человек не может создать ни атома материи, ни атома идеи. Вся литература воображения покоится, как положительная литература, как наука даже, на действительности, но она свободна от всякой заботы об абсолютной точности, будучи подчинённой только той относительной точности, которую мы называем общей логикой, а законы этой общей логики достаточно эластичны, чтобы допускать «Божественную комедию» или «Путешествие Гулливера» [712]. Или, как отмечает Андре Моруа: «Художественное творчество не есть творчество ex nihilo. Легко было бы показать, что самые странные рассказы, наиболее далёкие от реального наблюдения, например «Путешествие Гулливера», рассказы Эдгара По, «Божественная комедия» Данте или «Король Юбю» Жарри, созданы из воспоминаний точно так же, как и чудовища Винчи или фигуры на капителях колонн воплощают черты человека и животных…» [713].
Оригинальная, индивидуальная фантастика в поэзии следует методу живописи и скульптуры. Она всегда исходит из точно изученных и верно воспроизведённых основных элементов, незаметно для читателя группируя их во всевозможных сочетаниях, которые воспринимаются его воображением как правдивые, или же создавая вначале типы и положения в полной гармонии с действительностью, незаметно отклоняется от нормального или возможного в жизни и вводит сцены, свидетельствующие о любви к гипотетическому, к смелым скачкам и к сенсационному. Чтобы достичь власти над читателем, автору необходимо обладать двумя ценными качествами: с одной стороны, он должен основательно знать человеческую природу и особенно все её исключительные и подсознательные проявления, с другой — обладать воображением, способным придать всему странному и таинственному самый естественный вид, комбинировать отдельные мотивы в сложную историю, действие которой развивалось бы со строгой необходимостью. Несомненно, что этот естественный вид и эта необходимость не выдерживают критики трезвого ума, но именно потому, что ум подчинён настроению, которое поддерживается ожившим в магическом освещении вымышленным миром, у нас не возникает чувства диспропорции или фальши. Читая истории Гофмана или Эдгара По, мы можем убедиться в том, как много рационального имеется в вымысле и какая роль отводится внушению. Гофман всегда исходит из вещей, данных в повседневном опыте, но прежде всего набрасывает картины, отвечающие точному наблюдению. Наглядность образов настолько подкупает воображение читателя, что поэт может в дальнейшем оставить почву действительности и углубиться в царство фантазии. Всё, что происходит здесь, воспринимается как пластические образы, и, поскольку автор воздействует на инстинкты, меньше всего подчинённые разуму, он вскоре заставляет нас следить затаив дыхание, с напряжённым вниманием за невероятными приключениями, например в «Золотом горшке» или в «Эликсире дьявола».
Такая же склонность к гротеску и ужасам видна и в рассказах Эдгара По. Автор «Золотого жука», «Убийства на улице Морг» и «Украденного письма» либо страдает ипохондрией и delirium tremens [714], либо отличается особой чуткостью ко всему необыкновенному и загадочному как в человеческой душе, так и в природе; у него имеется ярко выраженная тенденция к описанию таинственного. Подготовив почву для воображения с помощью определённых образов или загадочных событий, он планомерно развивает со всем искусством внушения свою задачу: он ведёт нас через головокружительные пропасти, погружается в мистику неодушевлённой природы, описывает чудовищные характеры и, наконец, после того, как любопытство возбуждено до предела, даёт самую простую и естественную развязку. Это как бы галлюцинации, которые имеют своё разумное основание, призраки и случаи, взятые из действительности, — настолько обрисовка и анализ соответствуют тому, что мы привыкли встречать в самых реалистических изображениях.
Подобный пример («У каждого своя химера») мы находим и в маленьких поэмах в прозе Бодлера, где видение-символ приобретает такую выразительную силу.
«Под огромным сводом серого неба, на обширной пыльной равнине, без дорог, без зелени, где не росли даже крапива и чертополох, встретил я несколько человек, которые сгибаясь шли вперёд.
Каждый из них нёс на спине Химеру, огромную и тяжёлую, как куль с мукой или углём или как вооружение римского пехотинца.
Но чудовище не было инертной тяжестью; напротив, оно обвивало и сжимало человека своими упругими и могучими мускулами; оно впивалось длинными когтями в грудь своей жертвы; и её фантастическая голова поднималась над головой человека, подобно тем ужасным каскам, при помощи которых древние наводили страх на неприятеля.
Я заговорил с одним из этих людей и спросил его, куда они идут. Он ответил мне, что ни он, ни другие ничего об этом не знают, но что, очевидно, они куда-то идут, так как их гонит непреодолимое желание двигаться вперёд.
И странно: ни один из путников не выказывал раздражения против свирепого животного, сидевшего у него на шее и пригибавшего его к земле; можно было подумать, что он считал его частью самого себя. Все эти истомлённые и серьёзные лица не выражали никакого отчаяния; под тоскующим сводом неба, попирая ногами землю, столь же безотрадную, как и небеса, шагали они с покорными лицами людей, обречённых на вечную надежду.
Кортеж прошёл мимо меня и исчез в туманной дали, там, где поверхность земли, закругляясь, ускользает от любопытного взора.
В течение нескольких мгновений я упорно пытался разгадать эту тайну; но скоро непреодолимая апатия овладела мной и я был подавлен ею более, чем эти люди своими Химерами» [715].
Фантастика здесь имеет целью внушить нам с помощью оригинальных аллегорических образов идею неумолимой судьбы, жестокой участи человека, как её воспринимает разочарованный поэт-фаталист.
Наконец, надо добавить, что фантастика встречается и в чисто исторических или натуралистических картинах, если она отвечает субъективной вере или переживаниям героев. Призрак отца в «Гамлете» или видения Банко в «Макбете» оправданы с точки зрения психологического реализма так же, как и бред несчастной сиротки в «Ганнеле» Гауптмана. Разве не реальны этот призрак смерти в цветах, с ангельскими крыльями и мечом или эти картины из Библии и народных сказок, ожившие в лихорадочном воображении больного ребёнка? Уважая внешнюю житейскую правду, поэт властен находить фантастику в современности. Или наоборот, он может использовать предания и обрабатывать саги прошлого со всей их внешней фантастикой, мотивируя реалистически только внутренние переживания. Последний метод одинаково использовался и в средние века в «Парцифале» или «Песне о Нибелунгах», и в эпоху романтизма, когда Фридрих Геббель, например, взяв саги о Гигесе и Нибелунгах, наполняет их своими психологическими и философскими идеями, не затрагивая фантастическую канву сюжета [716].
5. ТИПИЧНЫЙ СИМВОЛИЗМ
В этих последних драмах мы наталкиваемся и на нечто иное, чем соблюдение внутренних законов человеческой природы. Мир мифов, саг и сказок не является в них самоцелью и взят не как нечто единичное и исторически ограниченное, но осмысленное с точки зрения современных понятий, а как нечто типичное, как отражение бесчисленных подобных отношений и характеров. За конкретным случаем конфликта между Кандавлом и Родопой в «Гигесе» или трагической судьбой Нибелунгов поэт видит проблемы общечеловеческих отношений, которые лишь очень неполно и неясно выражены в отвлечённой форме. В тот момент, когда Геббель наталкивается на историю индийского князя у Геродота и у Платона, он воспринимает её как нечто большее, чем исторический анекдот, необыкновенно пригодный для использования, но это «большее» проясняется для него постепенно: лишь когда он заканчивает драму, к его собственному удивлению, неожиданно выступает, «как остров из океана, идея нравственности, которая обусловливает и связывает всё воедино». Геббель не из тех, кто любит наливать новое вино в старые мехи; он не приверженец чисто исторических драм, которые исчерпывают содержание только одной эпохи и не открывают пути к более раннему или позднему, но здесь он считает возможным обработать древний миф, не исходя из абстрактных идей о смысле исторического процесса, так как миф сам в себе заключает этот смысл. Его подход здесь весьма условно можно назвать историческим, именно в том смысле, в каком Гёте мог считать свою «Ифигению», свою скрытую исповедь, исторической драмой. Случай, взятый у Геродота и Платона, использован как форма для более широкого содержания, как один из тех фактов жизни, в которых отражаются судьбы людей и вся эпоха. Если Геббель настаивает на том, что всякое искусство, особенно драма, имеет символическую ценность [717], он хочет сказать, что искусство изображает единичное не как частицу бытия, а как символ всего бытия, как конкретное выражение закона исторического развития — закона необходимости. Всякая драма, по его мнению, должна быть философской, но никогда эту философию нельзя сводить к отдельным сентенциям, вложенным в уста героев, она должна быть как бы скрытым светом, трудно уловимым откровением в каждой сцене и каждом характере. Так временное, национальное и индивидуальное превращаются в искусстве в нечто всеобщее, которое может (через посредство искусства) приобрести и практическое значение: обосновать глубже существующие человеческие институты, политические, религиозные или нравственные, показав их подлинное разумное значение.