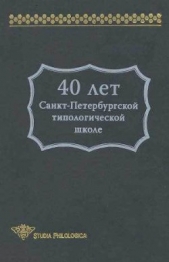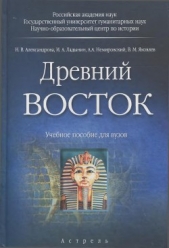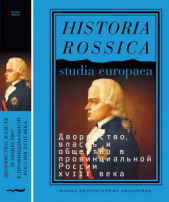Российская империя в сравнительной перспективе

Российская империя в сравнительной перспективе читать книгу онлайн
Насколько мы осознаем сегодня имперское измерение российской истории, его характерные особенности и черты, общие с другими империями? Сборник новых статей ведущих российских и зарубежных исследователей демонстрирует новые возможности сравнительного изучения истории Российской империи XVIII – начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ментальная амбивалентность Сибири и фобия сибирского сепаратизма
На определение управленческих задач влияли не только политические и экономические установки, исходившие из центра империи, но и «географическое видение» региона, его политическая и социокультурная символика и мифология, трансформация регионального образа в сознании правительства и общества. Географические образы могут рассматриваться «как культурные артефакты, и как таковые они непреднамеренно выдают предрасположения и предрассудки, страхи и надежды их авторов. Другими словами, изучение того, как общество осознает, обдумывает и оценивает незнакомое место, является плодотворным путем исследования того, как общество или его части осознают, осмысливают и оценивают самих себя»69.
В составе России Сибирь исторически имела как бы две ипостаси – отдельность и интегральность70. Сибирь манила романтической свободой, богатствами и одновременно пугала своей неизведанностью, каторгой и ссылкой. Она представлялась залогом российского могущества, землей, где, по словам фонвизинского Стародума, можно доставать деньги, «не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечество». В российских правительственных кругах на Сибирь долгое время смотрели как на случайно доставшуюся колонию, видя в ней «Мехику и Перу наше» или «Ост-Индию».
Помимо образа «золотого дна», уже к началу XIX века Сибирь вошла в литературу и устную мифологию как символ страданий71. Показательно, что даже Кавказ именовали «теплой Сибирью». Один из русских помещиков назвал «Сибирью» пустынное место в Тверской губернии, куда он ссылал для наказания своих крепостных. «Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак…», – писал поэт H.A. Некрасов. Для французского путешественника маркиза А. де Кюстина Сибирь начиналась сразу за Вислой, являясь синонимом всей России, которой он отказывал в европейскости, видя везде «призрак Сибири», «сей политической пустыни, сей юдоли невзгод, кладбища для живых», колонии, без которой Российская империя была бы неполной, «как замок без подземелий»72.
Переход через Уральские горы вольными и невольными путешественниками окрашивался сильными эмоциями, как вступление не просто в неведомое географическое пространство, но и в другую жизнь. Ссыльные, пересекая границу между Европой и Азией, Россией и Сибирью, попадали в пугающий их чужой мир, страну изгнания, пребывание в которой сравнивалось с адом73. Д. Кеннан описал драматическую сцену прощания невольных переселенцев с родиной у пограничного столба «Европа-Азия»: «Некоторые дают волю безудержному горю, другие утешают плачущих, иные становятся на колени, прижимаясь лицом к родной земле, и берут горсть с собой в изгнание, а есть и такие, что припадают к холодному кирпичному столбу со стороны Европы, будто целуя на прощание все то, что она символизирует»74. Но было в сознании ссыльных и светлое ожидание того, что они покидают «ненавистную Россию», с ее деспотизмом, крепостным рабством и земельной нуждой. Знакомясь с Сибирью ближе, они проникались к ней теплыми чувствами, стирая в сознании прежние стереотипы.
С крестьянской колонизацией постепенно менялось представление о Сибири и у простого россиянина. П.И. Небольсин писал, что в 1840-е годы Сибирь, может быть, несколько утратила в глазах русского крестьянина ореол «края особенно привольного», но зато простой народ переставал дичиться ее. Сюда все чаще шли вольные переселенцы, работники на прииски не потайными тропами, а «с законным паспортом за пазухой»75. Сибирь переставала быть всероссийским пугалом. На протяжении XIX века, хотя и медленно, шел процесс постепенного разрушения образа Сибири как «царства холода и мрака». Возвращавшемуся в 1854 году с востока из заморского путешествия через Сибирь в Россию И.А. Гончарову уже Якутск показался столь родным, что он записал: «Нужды нет, что якуты населяют город, а все же мне стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от времени одноэтажных деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь!» Подъезжая же к Иркутску, он с удовлетворением отмечал, что «все стало походить на Россию», но с одним лишь отличием: нет барских усадеб, а отсутствие крепостного права в Сибири «составляет самую заметную черту ее физиономии»76.
Сибирь перестает восприниматься как «чужбина» под воздействием модернизационных процессов, включается в коммуникативное пространство российских крестьян как русский «мир», земля, «которую обрабатывают православные земледельцы, сохраняющие свои обычаи и традиции»77. Привлекательный образ Сибири и ее жителей вставал со страниц сочинений сибирских писателей, русских и иностранных путешественников, из частных писем78. От «злыдарной жизни» в Европейской России крестьяне хотели уйти на просторные и богатые сибирские земли. Идеализируя свободу крестьянина, не знавшего крепостного права, ссыльным народникам Сибирь казалась мужицким царством, откуда пойдет освобождение всей России. И народная песня призывала не бояться Сибири – «Сибирь ведь тоже русская земля».
Конечно, здесь была тоже Россия, но какая-то «иная». Писатель М.Г. Гребенщиков так описывал свои впечатления от увиденного им на российском Дальнем Востоке: «Все не так идет: почта ходит иначе, чем везде; закон иначе понимается, зима иная, иные люди. И долго коренному жителю Петербурга или Москвы приходится привыкать к этому иному уголку России… Как будто все и так, да в сущности-то все иное»79. Вслед за Ф. Броделем, по примеру Франции, нам остается только повторить, что единой России все еще не существовало и следует говорить о «многих» Россиях80. Это утверждение уводит нас еще в одну плоскость ориенталистского дискурса и ментальной географии – к теме географических и социокультурных образов российского внутреннего Востока как симбиоза европейского и азиатского, сложной иерархии идентичностей, представлений о себе и «другом» на окраинах огромной Российской империи.
Однако, мало было заселить край желательными для русской государственности колонистами, важно было соединить имперское пространство культурными скрепами. Выталкиваемый из Европейской России за Урал земельной теснотой и нищетой переселенец уносил с собой сложные чувства грусти по покинутым местам и откровенную неприязнь к царившим на утраченной родине порядкам. Существовало опасение, что русский человек, оторвавшись от привычной социокультурной среды, легко поддастся чужому влиянию, может «обынородиться», что у него слабые культуртрегерские задатки81.
В специальной записке о состоянии церковного дела в Сибири, подготовленной канцелярией Комитета министров, указывалось на необходимость объединения духовной жизни сибирской окраины и центральных губерний «путем укрепления в этом крае православия, русской народности и гражданственности»82. Эту задачу, по мнению правительства, определяли сибирские особенности: определенный религиозный индифферентизм сибиряков-старожилов, разнородный этноконфессиональный состав населения. Психологическое и культурное своеобразие сибиряков удивляло и даже пугало современников83. Ссыльный революционер-народ-ник С.Я. Елпатьевский был поражен увиденным в Сибири: «Среди разнообразных элементов, населяющих сибирскую деревню, нет только одного – русского… „Русского“ не видно и не слышно, России не чувствуется в Сибири»84. A.A. Кауфман отмечал, что амурские крестьяне выглядели настоящими американцами, непохожими на русского мужика85. Приехавшего в начале 1870-х годов на службу в Сибирь чиновника П.П. Суворова поразило в речах сибиряков само слово «российские», в котором он усмотрел политический смысл. «В нем заключается представление о России, как о чем-то отдаленном, не имеющем родственного, близкого соотношения ее к стране, завоеванной истым русским. В Иркутской губернии, – писал он, – мне даже приходилось слышать слово „метрополия“, вместо Россия»86.