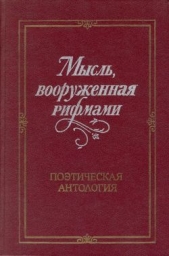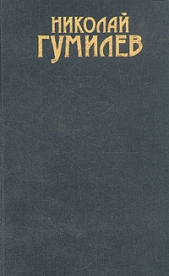Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Погляди, как народ умирает,
и согласен во сне, и умрет.
Как он кнут по себе выбирает,
над собой надругавшийся сброд.
Для сравнения:
Хорошо умирает пехота, / и поет хорошо хор ночной,
а также
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Дальнейшие творческие искания О. Седаковой — это путь усложнений, обилия аллюзий — от античных поэтов, Данте, средневековья (цикл
«Тристан и Изольда»), агиографического романа XII в «Варлаам и Иоссаф» об обращении и отказе от мирских благ, чему посвящен триптих
О. Седаковой, включенный в книгу «Элегии», до Леопарди, Рильке, с которым она ведет диалог-спор, как было замечено в предисловии
С. Аверинцевым[355], и русских поэтов, включая Хлебникова, которому также посвящена элегия, Заболоцкого и наших современников, Е. Шварц,
Л. Губанова, И. Жданова, которым также посвящены элегии. В элегии «Бабочка или две их», посвященной памяти Хлебникова, — неологизмы в
духе Хлебникова («жить и в леторасли земной»), образность («поглядев хотя б глазами скифской бабы»), намеренный отказ от законов
грамматики и синтаксиса («жадной злобы их не захочу я хлеба: / что другое — но не так»).
Что нам злоба дня и что нам злоба ночи?
Этот мир, как череп, смотрит: никуда, в упор.
Бабочкою, Велимир, или еще короче
мы расцвечивали сор.
Выходит, сор, из которого растут стихи (Ахматова), необходимо расцветить, а не тащить как есть в стихи. Бабочка (бабочка-слово, бабочка-
поэзия) именно в силу своей эфемерности парадоксальным образом может избежать тления:
Бабочка летает и на небо
пишет скорописью высоты.
В малой мельничке лазурного оранжевого хлеба
мелко-мелко смелются
чьи-нибудь черты.
<…>
Потому что чудеса великолепной речи,
милость лучше, чем конец,
потому что бабочка летает на страну далече,
потому что милует отец.
Образ «мельнички» О. Седаковой — несколько другой природы, нежели грозная мельница Е. Шварц. Если элегия, посвященная Велимиру
Хлебникову, светла, несмотря на затемненность и затрудненность синтаксиса, то «Элегия осенней воды», посвященная памяти Сергея Морозова и
Леонида Губанова, гениального поэта, одного из основателей СМОГа, затравленного и загубленного советской властью, полна скорби и
размышлений о самоубийцах, о собственной старости, «глядящей в лицо мне». Не случайно, Седакова обращается к Великому или Покаянному
канону святителя Андрея Критского (660–740), оплакивающего грехи человечества, но и дающего силу их превозмочь. О. Седакова задается
вопросом: во что превращается осенняя «обегающая бессонная вода/ перед тем, как сделаться льдом, сделаться сном» и учится смирению у
воды: «Есть ли что воды смиренней?»:
Что смиренней воды? она
терпенья терпеливей, она, как имя Анна,
благодать, подающий нищий, все карманы
вывернувший перед любым желаньем дна.
Поэт может «всякую вещь открыть, как дверь», но в силу этого «Поэт — этот тот, кто может умереть / там, где жить — значит дойти до
смерти». Такова плата за дар: жизнь «на разрыв аорты», «до полной гибели, всерьез». Путь поэта — через мысли о смерти, отрицание соблазнов,
отрицание себя, отрицание самой Музы, глядящей «вымершими глазами /чудовищного коня, иссекшего водное пламя / из скалы, на которой не
живут // ни деревья, ни тени, ни птицы», через созерцание, как ушедших «тонкие тени» собирают, «как ребенок светловолосый/ собирающий
стебли белесой / святой/ сухой/ травы». В подтексте слышится аллюзия на «Лицо коня» Н. Заболоцкого — своеобразный метафизический
антропоморфизм, когда природа обладает высшим знанием жизни: если бы конь был наделен речью, мы бы услышали «Слова, которые не
умирают/ И о которых песни мы поем» (1926). Не о том же ли элегия «Земля», посвященная С. С. Аверинцеву, речь о которой ниже? Только
пройдя через все круги, можно услышать, как
С этим-то звуком смотрят Старость, Зима и Твердь.
С этим свистом крылья по горячему следу
над государствами длинными, как сон,
трусливыми, как смерть,
нашу богиню несут —
Музу Победу.
Элегии построены так, что на каждом новом этапе поэт выявляет новые противоречия, чтобы вновь разрешить их. Таким трагическим
раздумьем о жизни является полная горечи «Элегия смоковницы», посвященная И. Жданову. Обращение к библейской смоковнице, проклятой
Иисусом Христом за неплодие (Мрк. 11:13–21) — не случайно. Является ли оправданием жизни «дорогой аромат, за который ты отдала // все, что
имела»? Ответ — в смирении: «Кто просит прощения —/ однажды будет прощен». Ответ также в преодолении соблазнов и отречении от земных
благ («Варлаам и Иоасааф»), Но ответ содержится и в элегии «Земля», в которой, видя, как «земля начинает светиться, возвращая // избыток
дареного, нежного, уже ненужного (sic!) света», поэт задается вопросом: «Может быть, умереть — это встать, наконец, / на колени?» и вопрошает
землю «о причине заступничества и прощенья» и — о смиренье самой земли:
я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?
Почему они милы или чем угодили?
— Потому что я есть, — она отвечает. —
Потому, что все мы были.
Думается, что в элегиях Е. Шварц и О. Седаковой — два совершенно разных, но равно плодотворных ответа на вопрос, каковы границы
жанра элегии в новое постмодернистское время, как «вновь почувствовать себя дома», когда нельзя «выглянуть из окна», чтобы вновь обрести
опору для глаза, и только ли центонность, двухмерное перечисление вещей, когда «„фотка“ или телепередача, когда отрывок из песни,
несущейся из репродуктора — это такие же вещи, как лужи после дождя или роса на заре, как влюбленность или недоверие, как внутренняя
решимость или уже найденное решение»[356]. Метафизичность и есть уход не только от двухмерного, но и трехмерного пространства вещей, из
сущего — к бытию. Это постоянный поиск, отказ от уже найденных решений, в том числе и чисто поэтических, даже версификационных.
В отличие от многих, Ольга Седакова не занимается ни перечислением своих побед, ни странствий, но стремится «дойти до сути», порой
отказываясь даже от прежних своих находок. Нынешняя ее поэзия смиренна и аскетична. Предваряя давнее уже выступление Ольги Седаковой в
ОГИ 17 мая 2002 г., Ксения Голубович говорила о недоверии к высоким словам и абстрактным понятиям, о преодолении романтизма и символизма
в современной русской поэзии подобно тому, как акмеисты в своё время преодолели символизм, вернув словам изначальный смысл. С точки
зрения Голубович, нынешней поэзии необходимо отобразить сознание «современного никчемного человека», «нашу никчемность» якобы для
того, чтобы опять привлечь внимание читателя.
Очевидно, не лишне опять-таки воспользоваться советом Паскаля определять значения слов, чтобы избавить мир, если не от всех, то хотя бы
от некоторых заблуждений. «Никчемный человек» — это человек, неспособный ни к какому действию, неспособный ни любить, ни ненавидеть. В
этом смысле вполне никчемны, скажем, «Полые люди» Элиота, которым противопоставлены люди активной, но злой воли, как организатор
порохового заговора в Лондоне Гай Фокс или Курц из романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Однако весьма существенно то, что в «Полых
людях» Элиот, усвоивший идеи Паунда, скрывается под маской, не отождествляя себя с «полыми людьми». Идея безличной или, вернее,
внеличностной поэзии (impersonal poetry), выдвинутая Элиотом, основана на принципах драматической поэзии, в которой автор растворён в
персонажах и не отождествляется с лирическим героем стихотворного произведения. Тем не менее, личность автора, подчеркнём, является, как и