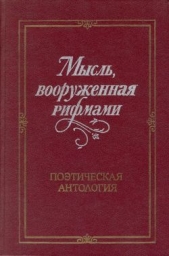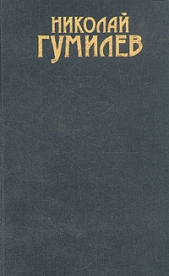Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что, привязаны к стульям, покойники в зале сидят,
Запрокинувши головы, смотрят назад?
Что сюда их приводят, как в баню солдат?
Телеграмма Шарлотте: «Жду. Люблю. Твой Марат».
Лента Бергмана оказывается жизнью лирического героя — самого автора, поскольку такова специфика употребления в поэзии местоимений 2
лица ед. ч., о чем писали и Якобсон и Ю. М. Лотман и что уже неоднократно отмечалось в этой книге[351]. Ирония ада: покойников, как арестантов
в баню, приводят смотреть раскручивающуюся ленту жизни поэта, Марат посылает Шарлотте Конде телеграмму, торопя собственную смерть.
Внешний ад — оказывается адом внутренним, рождение — Воскресение — через смерть: «Твоя смерть — это ангела смертного роды». «Элегии на
стороны света» — поиск, хождение по мукам, по кругу, по азимуту души, между полюсами, между адом безлюбья и сомненья, неверья и веры:
Скажи мне, родимая, — я ли жила
На свете? В лазури скользила плыла?
<…>
А ведь Бог-то нас строил —
Как в снегу цикламены сажал.
В «Южной Элегии», где смешение полюсов — Северного и Южного, поскольку Скотт открыл Южный полюс, а Пири — Северный, как было
замечено В. Фридли[352], ориентиры — «птицы — нательные крестики Бога!». Примечательно, что сопровождают поиск аллегорические звери —
Лев — символ Христа (Ин. 5:5) и евангелиста Марка (Ин. 4:7), Орел — символ зоркости, ви
и дения; состарившийся орел, как о том повествует
«Средневековый Бестиарий», хранящийся в Санкт-Петербургской Публичной библиотеке, «поднимается к солнцу, опаляет крылья и проясняет
тусклость глаз, а затем три раза окунается в источник, возвращая себе красоту оперения и силу зрения». «Орла омоложение — души
обновление», — так резюмирует текст об орле переписчик рукописи «Aviarium’a» Псевдо-Гуго[353]. Телец — помощник человека в возделывании
земли; традиция изображения «исполненного очей Тельца Апокалипсиса — символ евангелиста Луки»[354]. Не случайно, что в пятой, «Большой
элегии на пятую сторону света», написанной в 1997 г. и завершающей поиск в центре мироздания, к этим аллегорическим животным
присоединяются Ангел и четыре евангелиста.
Стало быть, «Западная элегия» так же, как и три предыдущие — это путь поэта и поиск спасения и Спасителя, причем видение лже-
спасителя-антихриста — пророческое:
Он шел в луче голубом и тонком,
За ним вертолеты летели, верные, как болонки.
И народ на коленях стоял и крестился в потемках.
Он приблизился, вечный холод струился из глаз.
Деревянным, раскрашенным и нерожденным казался.
Нет, не ты за нас распинался.
Примечательно, что видение и умение отличить истинное от ложного, спасение от соблазна дано лишь поэту и святой Ксении Петербургской,
босоногой юродивой «в гвардейском мундире до пят». Отправная точка странствия-поиска — Москва. Юг — направление на Южный, но и на
Северный полюс. Восток — Азия, Запад — Петербург, но и Средиземноморье, а также — Аид и Ад. Однако стороны света не исчерпываются
географией — в каждой есть своя символика. Так в «Северной» прослеживаются оппозиции ад-небо, душа-дух, смерть-рождение (чем элегия и
заканчивается); в «Южной» — «вы» — «я», лазурь (небо) — мы, замысел Бога и воплощение, Юг и Север души; в «Восточной» — смерть —
воскресение (ибо она начинается в крематории: «Крематорий — вот выбрала место для сна! / Встань поставлю я шкалик вина.»; в «Западной»
Спасение — лже-мессия, запад-ад. Путь на Запад — это также схождение в Аид:
Туда — на закат, где, бледна, Персефона
С отчаяньем смотрит на диск телефона,
Где тени и части их воют и страждут,
Граната зерном утолишь ты и голод и жажду.
Как известно, Персефона, дочь Деметры и мать Диониса-Загрея, которого она родила от Зевса, была с разрешения Зевса похищена богом
подземного мира Аидом (Гесиод, «Теогония» 912–914), вкусила гранатовое зернышко и вынуждена была проводить треть года в подземном мире,
а две трети — на Олимпе, как сказано о том в «Гимне» Гомера (V, 360–413). Однако миф «остраняется», «демифологизируется» (В. Н. Топоров),
Персефона (не исключено, что ипостась лирической героини), «с отчаяньем смотрит на диск телефона»: в подземном мире ни телефон, ни
граммофон («Большая элегия на пятую сторону света») не спасут. В «Большой элегии» стороны света оборачиваются «мельницей света сторон»,
«колесом», которое подобно самому времени, нас перемалывает в прах: «Мы смолоты в пепел и прахом осядем на дне» (в подтексте явно
слышится: «Ибо прах ты и в прах превратишься», Быт. 3:19). Соблазны усложняются, включая в себя соблазн алхимии земных благ и желаний:
Там в полиуночье — жар сладострастья и чад,
Там в аламбиках прозрачных багровое пламя растят.
Поиск, занявший формально 20 лет, разделяющих эти элегии, а фактически всю жизнь, и символизирующий путь поэта, завершается в
центре сферы (в сферу также вписана вера, как ад в запад), в центре которой — крест, но и это разрешение болезненно:
У мысли есть крылья, она высоко возлетит,
У слова есть копи, оно их глубоко вонзит.
О, ярости лапа, о светлого клюв исступленья!
Но ангел с Тельцом завещали нам жалость, смиренье.
Я всех их желаю. И я не заметила — вдруг —
На Север летит голова, а ноги помчались на Юг.
Вот так разорвали меня. Где сердца бормочущий ключ —
Там мечется куст, он красен, колюч.
И там мы размолоты, свинчены, порваны все.
Но чтоб не заметили — время дается и дом.
Слетая, взлетая в дыму кровянисто-златом,
Над бездной летим и кружим в колесе.
Куст, очевидно, — неопалимая купина. Местное, локальное, земное время скрывает от нас нашу бренность, тщету нашего тщеславия и
соблазн до мгновения откровения, но, как сказал Элиот, «поиски пересечения времени с вечностью — /занятие лишь для святого, и не занятие
даже, но то, что дано и отобрано /Прижизненной смертью во имя любви, / Самоотверженности, самопожертвования и самосожженья» («Драй
Сэлвейджес» V, «Четыре квартета» — перевод мой — Я.П.).
Путь, однако, не завершен. В конце — еще одна картина: уже не аллегорические, а как бы явившиеся из басни волки, сидящие в
крещенскую ночь «у прорубной дыры» с примерзшими хвостами. Волки эти удивительно напоминают поэту нас самих: «Волки — то же, что мы, и
кивают они: говори./ Мутят лапою воду, в которой горят их глаза / пламенем хладным…».
В финале «Большой элегии на стороны света» Елена Шварц как бы повторяет мысль Элиота:
…Если это звезда, то ее исказила слеза.
В ней одной есть спасенье, на нее и смотри,
Пока Крест, расширяясь, раздирает тебя изнутри.
Выходит, что и поэзия — занятие лишь для святого (если — «на разрыв аорты»). В итоге, Крест вошел в душу, как в плоть (как бы распятие
изнутри), а пространство сгустилось в точку-звезду.
Стало уже почти трюизмом сравнивать Елену Шварц с Мариной Цветаевой, а поэзию Ольги Седаковой — с Анной Ахматовой, в то время, как
обе современные поэтессы строят свои поэтики скорее на сознательном уходе от своих знаменитых предшественниц. Очевидно, наиболее близка
поэтике Ахматовой книга О. Седаковой «Дикий шиповник», особенно цикл «Восемь восьмистиший»:
Полумертвый палач улыбнется —
и начнутся большие дела.
И скрипя, как всегда, повернется
колесо допотопного зла.
Погляди же и выкушай страха
да покрепче язык прикуси.
И из рук поругателей праха
полусытого хлеба проси.
Есть, однако, и заметные отступления, как в ритмическом смысле, так и в словоупотреблении: «выкушай страха», «полусытого хлеба». Если
тематически эти стихи близки и «Реквиему», и стихам «Когда погребают эпоху,/ Надгробный псалом не звучит» («Август 1940»), интонационно
«Восьмистишия» близки также к О. Мандельштаму, впрочем, не только к одноименному циклу, но и к «Стихам о неизвестном солдате»: