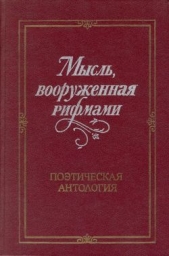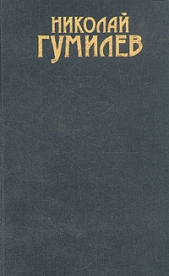Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тысячи — псами по свежему следу,
В клочья — шкуру седых ночей —
Слышишь? Кто-то зовёт победу
Трубной песней стальных мечей.
В этом варианте есть свои достоинства: образ детской пудры говорит о припудривании настоящего и противопоставлен более позднему
стихотворению «Катилина», в котором уже не пудра, а пыль времен, через которую, тем не менее, способен проникнуть взор поэта; во-вторых,
так же, как в более раннем стихотворении, столь полюбившемся поклонникам виртуальных сражений, вовсе нешуточная мысль о готовности
погибнуть за идеалы, и, наконец, рассвет вновь, как это часто у Р. Мандельштама, переживается как взрыв и как сражение. Поэт не дожил до
того возраста, когда умудрённые опытом мэтры сличают, выбирают и объединяют или отбрасывают варианты — словом, редактируют. Поэтому
хорошо, что и в томском и в опубликованном в 2006 г. в издательстве Ивана Лимбаха (составленное сестрой Еленой Петровой-Мандельштам)
томах приводятся все стихотворения, которые были доступны издателям, как равноправные варианты. Так же изданы и стихи О. Мандельштама.
Оба варианта «Дон-Кихота» гораздо ближе по ритмике «Заблудившемуся трамваю» Гумилева, чем «Алый трамвай»: сильная, хотя и несколько
смещенная во многих стихах от середины цезура, отсутствие безударного слога в последней стопе, превращающее его из 4-стопного дактиля в 4-
иктный дольник, указывает на несомненное влияние Гумилева, у которого данным размером написаны и «Товарищ» (I,89), и шутливое «Маркиз
де Карабас» (I,98), и «Путешествие в Китай», посвященное С. Судейкину: «Воздух над нами чист и звонок,/В житницу вол отвез зерно,
/Отданный повару, пал ягненок, /В медных ковшах играет вино» (I, 99). Однако у Р. Мандельштама, как уже не раз отмечалось, иной образный
ряд, иное видение.
«Металл угрожающих стрел»
Словом, не долго ехал Р. Мандельштам в трамвае Гумилева, хотя вослед за ним и другими поэтами Серебряного века обращается к
античности — не только «в тоске по мировой культуре», но и в стремлении восстать против империи, безошибочно определив римскую империю
как архетип всех империй и парадоксальным образом избрав сторону Катилины:
1. Я полон злорадного чувства,
Читая под пылью, как мел,
Тиснённое медью «Саллюстий» —
Металл угрожающих стрел.
2. О, литеры древних чеканов,
Чьих линий чуждается ржа! —
Размеренный шаг ветеранов
И яростный гром мятежа.
В этом классически-строгом стихотворении вновь синкретизм образов, причем граница столь искусно и неуловимо сдвигается, что пыль
времен становится прозрачной, прошлое — раскрытой и наконец-то прочитанной книгой, и не успеваешь опомниться, как нетленная медь
латинских литер превращается в «металл угрожающих стрел», и явственен «Размеренный шаг ветеранов /И яростный гром мятежа». Так
метафора вновь становится метаморфозой, прошлое — настоящим, настоящее при этом не уничтожается, но становится продолжением прошлого,
и по логике развития, бунт Катилины становится реальностью настоящего:
3. Я пьян, как солдат на постое,
Травой, именуемой ‘трын’,
И проклят швейцаром — пустое! —
Швейцары не знают латынь.
4. Закатом окованный алым, —
Как в медь, — возвращаюсь домой,
Музейное масло каналов
Чертя золотой головой.
Чтение Саллюстия, вовсе не симпатизировавшего бунтовщику Катилине, навевает лирическому герою мысли о бунте. Пустячный бытовой
инцидент со швейцаром принимает у поэта универсальный, если не вселенский характер, выражающийся в гордом презрении к воинствующему
невежеству. Центральной, как сказала бы Цветаева, «болевой точкой» является строфа:
5. А в сквере дорожка из глины,
И кошки, прохожим подстать —
Приветствуя бунт Катилины,
Я сам собирался восстать,
6. Когда на пустой ‘канонерке’
Был кем-то окликнут ‘Роальд!’
— Привет вам, прохожий Берзеркер!
— Привет вам, неистовый Скальд!
Берзеркеры (берзерки, берсерки) — «неистовые» скандинавские воины, считавшиеся непобедимыми. Воинственная «канонерка», как было
уже сказано, это — Канонерский переулок неподалеку от Садовой, где в коммуналке ютился поэт, который — не только из-за рифмы —
становится неистовым (отличительная черта этого тщедушного больного человека с несокрушимой силой духа) скальдом.
7. Сырую перчатку, как вымя,
Он выдоил в уличный стык.
Мы, видно, знакомы, но имя
Не всуе промолвит язык.
8. Туман наворачивал лисы
На лунный жирок фонарей…
— Вы всё ещё пишете висы
С уверенной силой зверей?
9. — Пишу (заскрипев, как телега,
Я плюнул на мокрый асфальт).
А он мне: — Подальше от снега,
Подальше, неистовый Скальд!
«Лунный жирок фонарей» — от О. Мандельштама. Явился ли собеседник скальда из прошлого, настоящего или из воображения поэта — не
столь важно, быть может, он — вообще второе «я» по-этаскадьда, который по логике развития образа должен писать не просто стихи, а висы,
жанр древненорвежской и древнеисландской поэзии.
10. Здесь в ночи из вара и крема
Мучителен свет фонаря.
На верфях готовы триремы —
Летим в золотые моря!
В этом стихотворении не только гипертрофия образа, то есть метафоры, доведенные до предела, но и другая характерная черта
Р. Мандельштама: романтизация обыденной действительности и перевод (транспонирование) или даже проектирование ее, как в «Дон-Кихоте» и
многих других стихах, в иное историческое время и пространство. Так история и миф становятся реальностью поэта, в то время, как окружающая
действительность упраздняется магией стиха:
11. Пускай их (зловещие гномы!)
Свой Новый творят Вавилон…
(Как странно и страшно знакомы
Обломки старинных колонн!)
«Новые хамы» и «скопцы» из «Рунической баллады» превратились в «зловещих гномов», а «Новый Вавилон» — это несомненно
интернациональное государство, СССР, которое должно пасть, как вавилонская башня, потому-то обломки колонн неуловимо напоминают — уже
читателю — и обломки башни, и обломки империи.
12. Затихли никчёмные речи.
(Кто знает источник причин!)
Мы бросили взоры навстречу
Огням неподвижных пучин.
13. Закат перестал кровоточить
На тёмный гранит и чугун.
В протяжном молчании ночи —
Незыблемость лунных лагун.
14. А звёзды, что остро и больно
Горят над горбами мостов,—
Удят до утра колокольни
На удочки медных крестов.
Вновь, как это характерно для Р. Мандельштама, — одушевление неживой природы и физиологическое ощущение бытия: «закат» кровоточит
(хоть и перестал), звёзды не только остро горят, но и причиняют боль, а колокольни, отражаясь в каналах, ловят звезды на удочки крестов.
Далее мир внешний переходит в мир внутренний (заметим в скобках, что здесь хотя и нет резкой грани, но водораздел между двумя мирами
ощутим):
15. Я предан изысканной пытке
Бессмысленный чувствовать страх,
Подобно тоскующей скрипке
В чужих неумелых руках.
О страхе — не только метафизическом, но физическом, — о допросах ли в КГБ, о давлении ли системы, — говорит последнее сравнение, и о
том, о другом «я», которое в данном случае отождествляется с поэтом, преданном в «чужие неумелые руки» (и, очевидно, грубые), которые
пытаются сыграть свой незамысловатый мотивчик на изысканном инструменте.
16. А где-то труба заиграла:
Стоит на ветру легион —
Друзья опускают забрала
В развернутой славе знамён.
17. Теряя последние силы
Навстречу туманного дня…
— Восстаньте, деревья, на вилы
Туманное небо подняв!
18. На тихой пустой ‘канонерке’
Останусь, хромой зубоскал:
— Прощайте, прохожий Берзеркер!
— Прощайте, неистовый Скальд!
И вновь мысль о восстании. Сродни Заболоцкому, поэт обращается к деревьям, но призывает их не читать стихи Гесиода, а восстать,