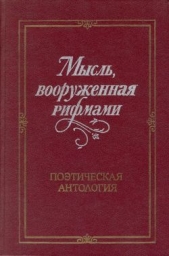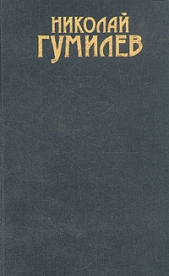Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Борромини и — посредством аллюзии с Мандельштамом (стихи «…Европа мрачная, я в Риме, /где светит солнце!» являются аллюзией на два
стихотворения О. Мандельштама, посвященные Ариосто: «В Европе холодно. В Италии темно»).
Изощренный мастер, Бродский отдает себе отчет в том, что следовать за великими поэтами от Катулла до Пушкина — опасное предприятие.
Следовательно, для большей убедительности он использует низкий штиль, воровской жаргон («канаю»), непристойности («Он ставит Микелину
раком», «бляди», «кончали», «кладешь с прибором»), с готовностью признает, что он «усталый раб», который «под занавес глотнул свободы». В
разрешении темы поэт связывает свободу со Временем, открыто заявляя, что оно умнее Пространства и делает свободу матерью литературы
(поэзии), тем самым достигая вечности:
XVII
Ей свойственно, к тому ж, упрямство.
Покуда Время
не поглупеет, как Пространство
(что вряд ли), семя
свободы в злом чертоплохе,
в любом пейзаже
даст из удушливой эпохи
побег. И даже
XVIII
сорвись все звезды с небосвода,
исчезни местность,
все ж не оставлена свобода,
чья дочь — словесность.
Она, пока есть в горле влага,
не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.
[III,211–212]
Примечательно, что Бродский играет на обоих значениях слова «побег», а во-вторых, вновь использует аллюзию на стихотворение 1937 г.
О. Мандельштама: «Пою, когда гортань сыра, душа суха, /И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье…»
Вайль, как уже было отмечено, утверждает, что Бродский — «кочевник, профессиональный изгнанник, <…> томимый ностальгией по
оседлости». Цель странствий поэта или его лирического героя, на наш взгляд, не только и не столько любовь к путешествиям, сколько, как было
сказано выше, — творчество («открыть рот»). Кроме того, в «Профиле Клио» Бродский приводит еще несколько причин желания стать
кочевником: зов Бога, чувство опасности [VI: 101] и «избавление от рационалистической теории общества, основанной на рационалистическом
истолковании истории, поскольку рациональный подход к обоим есть блаженное идеалистическое бегство от человеческой интуиции» [VI:110].
Именно последнее явилось причиной «бегства» Элиота из Америки в Европу, однако парадокс заключается в том, что Бродский «бежал» в
обратном направлении, а речь свою произносил перед студентами университета в Америке, колыбели прагматизма и рационализма.
Стало быть, возвращения в «город, знакомый до слез», не будет и об этом открыто сказано и в прозе, и в стихах, в частности, в «Итаке»,
разбиравшейся выше. Поэтому-то «все острова похожи друг на друга» и «глаз, засоренный горизонтом, плачет, / и водяное мясо застит слух».
В «Письмах династии Минь» [III, 154–155], стилизации в китайской манере, грусть и горечь «остранены» своеобразными меланхолическими
размышлениями. Однако время в «Письмах» так же, как и в «Пятой Годовщине» [III, 147–150], — частное, местное. Быть может, все
стихотворения, о которых говорится выше, равно, как и многие другие стихи Бродского, выражают ностальгию поэта по лесам, «где полно
черники», и по городу, «в чьей телефонной книге» он не числится. Эта ностальгия, возможно даже бессознательно, мстит чуждому времени и
пространству: потому-то континенты и страны стали столь похожими друг на друга. Подобное «стирание черт» было и сознательным в творчестве
Бродского, как в стихотворении «Ниоткуда с любовью» [III, 125]:
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой уважаемый милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнишь уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях…
Аллюзия на «Записки сумасшедшего» Гоголя и прием послания, столь виртуозно применяемый Бродским, блестяще передают эффект
отчуждения, затерянности во времени и пространстве, забвения (лирический герой движется в этом стихотворении в направлении,
противоположном героям Мандельштама, Йейтса, Кавафиса и Борхеса). Любопытно, что это стихотворение является как бы зеркальным
отражением следующих строф из «Конца Прекрасной Эпохи» [II, 311–312]:
То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека. То ли некая добрая фея
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —
да чешу котофея…
То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза…
Выбор все-таки пришлось сделать, и «драмодер нюхает рельсы» («К Урании»), ища следы давно скрывшегося из вида паровоза. Позднее
творчество Бродского во многом ответ на его же собственные более ранние стихотворения: если в «Конце Прекрасной эпохи» взгляд в будущее:
«Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора /да зеленого лавра», то в поздних стихах — взгляд назад, «в затылок» — глобусу — на
«город, в чьей телефонной книге / ты уже не числишься» (или «в котором ты уже не блещешь, как звезда»). Однако отношение поэта ко времени
и пространству не изменилось со времен «Конца Прекрасной Эпохи»: и там, и здесь — «конец перспективы» (но ведь и «рай — это место
бессилья. Ибо/ это одна из планет, /где перспективы нет» («Колыбельная Трескового Мыса», III, 89). И все же, если в «Конце Прекрасной Эпохи»
отрицание реальности, времени и пространства почти автоматически становилось утверждением, то теперь, «решившись дернуть по морю» и
обретя «пятерку шестых остающихся в мире частей», поэт как бы пришел к отрицанию утверждения.
Двоящийся мир химер, чуждое поэту пространство, удваивает одиночество, возводит его в квадрат и размывает время. Реальное время-
пространство «остранено». История также является неким кривым зеркалом, удваивающим артефакты бытия. Ни история, ни пространство не
утешают поэта: все странствия приводят к отрицательному результату. В этом, быть может, кроется и причина того, что в стихах, речь о которых
шла выше, стерлись, исчезли неповторимые черты реальности, поскольку «глаз, засоренный горизонтом, плачет, / и водяное мясо застит слух»
[III, 27] — вновь метафоры, реализованные до предела и отрицающие действительность.
И опять-таки стихотворение, написанное в «конце странствований», перекликается с известным стихотворением из «Части речи», где
отрицание звучит страстно и мощно, становясь в конце утверждением:
…и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
После стольких зим уже безразлично, что
или кто стоит в углу у окна за шторой,
и в мозгу раздается не неземное «до»,
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.
[III, 143]
Кроме ностальгии и горького сарказма в отношении земли, где «конец перспективы» и тупики («Конец Прекрасной Эпохи»), в стихотворении
из «Части речи» слышен отчетливый отзвук мотива забвения из державинской «Реки времен». Цель и единственная надежда поэта, быть
может, — остаться «частью речи», от которой он отделен враждебным пространством и временем. Мотив Горациевой «Оды», «Памятников»
Державина и Пушкина в устах постмодерниста звучит отстраненно (ср. с задорным юношеским стихотворением Бродского «Я памятник воздвиг
себе иной…»[217]), но от этого его убедительность лишь возросла. Об этом же Бродский говорил в своей Нобелевской речи: