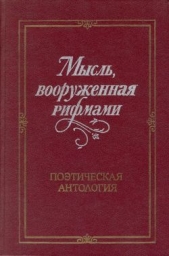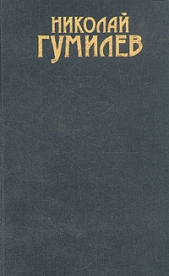Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
все время учись у тех, кто обладает знаньем». Для Кавафиса странствие — это познание, что сближает его с Одиссеем Мандельштама и
стихотворением «Итака» Борхеса. Затем Кавафис высказывает, на первый взгляд, парадоксальную мысль — не стоит от Итаки ожидать чудес,
поскольку больше она дать ничего не может:
Постоянно помни про Итаку — ибо это
цель твоего путешествия. Не старайся
сократить его. Лучше наоборот
дать растянуться ему на годы,
чтоб достигнуть острова в старости, обогащенным
опытом странствий, не ожидая
от Итаки никаких чудес.
Итака тебя привела в движенье.
Не будь ее, ты б не пустился в путь.
Больше она дать ничего не может.
Даже крайне убогой ты Итакой не обманут.
Умудренный, всякое повидавший,
ты легко догадаешься, что Итака эта значит.
Таким образом, для Кавафиса так же, как для Мандельштама («И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился,
пространством и временем полный»), и для Йейтса («Но смог урок наследия постичь я, / И потому, преодолев стихии, / Приплыл в святую землю
Византии») является не просто странствием по времени и пространству, но средством обретения знаний, постижением мира и, главное,
приобщением к культурному и духовному наследию человечества, утолением «тоски по мировой культуре», если вновь воспользоваться
выражением Мандельштама.
Бродский: «Река времен» или что остается от человека
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела;
Оттого-то Урания старше Клио.
«К Урании»
…жизнь — синоним
небытия и нарушенья правил.
«Муха»
В своем программном стихотворении «К Урании», в честь которого названа и русская (Ардис, 1987), и английская (Farrar, Straus & Giroux,
New York, 1988) книги, Бродский демонстративно игнорирует Историю. Урания старше и, очевидно, важнее Клио. Урания считалась в античности
музой астрономии и именно таковой представлялась Баратынскому: «Поклонникам Урании холодной / Поет, увы! он благодать страстей»
(«Последний поэт»[198]), а кроме того, как заметил Барри Шерр, она ассоциировалась с Афродитой, а в позднейшие времена, в поэзии Спенсера и
Мильтона — с музой христианской поэзии[199]. Именно такой представляется Урания Тютчеву в одноименном стихотворении 1820 г.: она первая
среди дочерей Мнемозины, верховная богиня, хранительница наук, знания, гармонии и поэзии:
Урания одна, как солнце меж звездами,
Хранит гармонию и правит их путями…
Несмотря на то, что Баратынский был одним из самых любимых поэтов Бродского, его Урания, очевидно, ближе к Тютчеву. Как заметил
Шерр, оригинал написан дольником, основанном на трехсложнике с одним или двумя безударными слогами между ударными [200]. Я не буду
подробно останавливаться на анализе этого стихотворения, детально проделанном Шерром в упомянутой статье. Как Галатская в анализе
«Ночного полета»[201], Шерр подчеркивает, что рифмы в поэзии Бродского вообще и в «Урании» в частности усиливают семантический смысл и
«могут создавать естественные семантические группы»[202]. Так «контрольные звоночки рифм» (Ахматова) немедленно привлекают наше
внимание к парам «печали-ключами», «ограде-квадрате», которые усиливают тему печали и одиночества, возводя их в квадрат (в переводе на
английский, выполненном самим Бродским, одиночество возведено в куб). Тема одиночества — сквозной, поэтический мотив творчества
Бродского, немедленно вызывает в памяти стихи «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже/ одиночество» («Колыбельная Трескового
Мыса», III: 82) — также своего рода семантический «квадрат». Как заметил М. Гаспаров, половина неточных рифм Бродского основана на
разнозвучии сонорного с сонорным либо звонких и глухих согласных[203]; Шерр называет их «теневыми рифмами»[204]. «Позвенеть ключами»
ассоциируется со стихами О. Мандельштама: «Когда подумаешь, чем связан с миром,/ То сам себе не веришь: ерунда! / Полночный ключик от
чужой квартиры, / Да гривенник серебряный в кармане,/ Да целлулоид фильмы воровской». Как писала Н. Мандельштам, «„Патриарх“ —
развитие темы непристроенности, чуждости, изоляции»[205]. Так же, как стихотворение О. Мандельштама 1931 г., «К Урании» посвящено теме
одиночества и отчуждения от жизни. В стихотворении Бродского, однако, одиночество ведет к пустоте, которая «раздвигается, как портьера» и
как «магический фонарь» высвечивает на экране памяти
… леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо — город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше к югу,
то есть, к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали.
Лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.
III, 248
Объемность, выпуклость этой картины дает возможность увидеть выпуклость земли-глобуса, которому «глядишь в затылок». Однако сдвиг
происходит не в пространстве, а все-таки во времени, и лирический «я» стихотворения, которого в данном случае трудно отличить от самого
поэта, прежде всего вглядывается в свое прошлое, в свой город, — и только оглядываясь назад во времени, можно почувствовать, что
«одиночество есть человек в квадрате». «Город, в чьей телефонной книге/ ты уже не числишься» — может быть только одним, единственным для
поэта Городом на земле. Лирический герой озирает глобус сродни ястребу из «Последнего крика ястреба»: воспаряет все выше, и оттуда видит,
очевидно, Памир, Азию, «где лица желтеют», а дальше океан, видимо, Тихий. Дальше — пена, «белье с кружевами», — при взгляде с такой
высоты детали становятся неразличимы; дальше — суть вещей, которой учит одиночество, дальше — «конец перспективы», взгляд в себя и в
Ничто, которое вновь ассоциируется с «мыслью о Ничто» из «Колыбельной Трескового Мыса». Онтологическая интерпретация одиночества как
пустоты, а пустоты как смерти, оппозиция «бытие — небытие» у Бродского сродни тютчевскому видению: «Бесследно все — и так легко не быть»,
«Утратив прежний образ свой,/ Все — безразличны, как стихия, — / Сольются с бездной роковой!..»; «На самого себя покинут он — /Упразднен
ум, и мысль осиротела — /В душе своей, как в бездне, погружен, /И нет извне опоры, ни предела». Как мы видим, Тютчев пошел дальше
Бродского, утверждая, что предела нет ничему. Бродский по крайней мере говорит, что «у всего есть предел: в том числе у печали». Более того,
у Тютчева есть жажда жизни и — одновременно — стремление за ее пределы — за пределы самого времени: «Дай вкусить уничтоженья, / С
миром дремлющим смешай», парадокс подмеченный Ю. М. Лотманом[206]. Парадокс этот, видимо, означает растворенность в мире бытия, то есть
все-таки «прибавление», а не «вычитание» (в этом отношении О. Мандельштам близок Тютчеву). У Бродского же, напротив, главенствует
принцип вычитания из жизни. Урания Бродского «раздвигает пространство», чтобы в итоге показать человеческую бренность, отчуждение от
мира и пустоту. Поэтому Броский определяет пространство как «отсутствие в каждой точке тела» (синтакс здесь размыт так, что не совсем
понятно, отсутствует ли пространство в каждой точке тела или тело отсутствует в каждой точке пространства). Ю. и М. Лотманы заметили, что в
книге «Урания» Бродского «вещь обретает реальность отсутствия»[207]. Примечательно, что интерпретация Бродским пространства как отсутствия
на вербальном уровне созвучна T. С. Элиоту: «И там где вы есть, вас нет никогда» («Ист Коукер», III), однако поэты вкладывают абсолютно
различный смысл в стихи, которые на первый взгляд друг другу созвучны. Стихи Элиота, как заметила Хелен Гарднер[208], — почти дословно
повторяют слова св. Хуана де Ла Круса из его «Восхождения на Гору Кармел»: