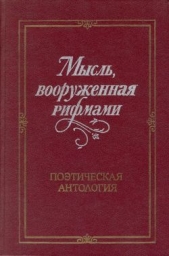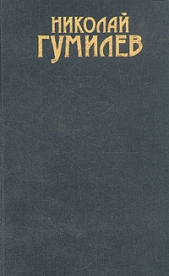Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«который горд / коня сохранить, а живот сложить». Так как «Письмо» было написано в ссылке, то и конь, стало быть, — Пегас, то есть из иронии
вырастает уже вовсе не шуточная мысль о служении поэзии «до полной гибели всерьез». Разумеется, корабль, потерпевший крушение среди
льдов, — отнюдь не «Титаник», а водная стихия: «Время — волна, а Пространство — кит», — метафора времени и пространства, неразрывно
слитых с творчеством, речью:
Так вспоминайте меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов,
в беге строк, в нуденье слов…
Море, мадам, это чья-то речь…
Я слух и желудок не смог сберечь:
Я нахлебался и речью полн.
Хотя «как пиво, пространство бежит по усам», «пропорот бок и залив глубок», лирический герой полон смирения, ибо
Никто не виновен: наш лоцман Бог.
И только ему мы должны внимать,
А воля к спасенью — смиренья мать.
«Идя на дно», поэт как бы в своеобразном каталоге, что, очевидно, так же, как в «Большой элегии Джону Донну» [I, 231–235] явилось
результатом учебы у английских поэтов-метафизиков, — приемы, которые впоследствии Бродский доведет до совершенства, — перечисляет
список имен, обозначая круг своих интересов, познаний, всего того, что в ту пору входило для него в понятие культуры, цивилизации: Ньютон,
Шекспир, Морзе, Попов, Маркони, Линдберг, «Эдисон, повредивший ночь», Фарадей, Архимед, Фрейд, Толстой, Эйнштейн, Ньютон, Бойль-
Мариотт, Кеплер, Мендель, Дарвин, и т. д. (Заметим в скобках, что остро переживавший разрушение культурных связей и традиции равно, как и
недостаток собственного образования, Бродский в те годы развивался стремительно как поэт и поглощал книги библиотеками.) Любопытно
отметить также и появление снегиря в концовке стихотворения как метафору поэзии, подхваченную у Державина, которая в будущем возникнет в
концовке стихотворения «На смерть Жукова» [III, 73].
Дальнейшим развитием мотива странствия и темы Улисса является, как заметила Л. Зубова[173], стихотворение 1967 г. «Прощайте,
мадемуазель Вероника» [II, 201–205]. Хотя в данном стихотворении мотив странствия не является доминантным, а звучит побочной темой, в то
время как главная — вполне личная (а Зубова в указанной выше работе, ссылаясь на Каломирова [Кривулина] [174], отмечает, что начиная с
1965 г. почти каждое стихотворение Бродского является своего рода медитацией, основанной на событиях собственной жизни), немаловажно, что
в этом стихотворении уже введена тема сына и — формально — тема возвращения, которая на поверку оказывается темой прощания:
Величава наша разлука, ибо
навсегда расстаемся. Смолкает цитра.
Навсегда — не слово, а вправду цифра,
чьи нули, когда мы зарастем травою,
перекроют эпоху и век с лихвою.
Музыка стиха вновь меняется: на смену твердому метрическому размеру приходит дольник, либо с цезурой в середине, либо с двумя
сильными паузами. Отметим также, что тема измены, которая ассоциируется здесь с именем Вероники, в стихотворении 1993 г. «Итака» [IV, 138]
и вовсе лишенная имени в контексте позднего стихотворения будет ассоциироваться, естественно, с Пенелопой.
Мотив странствия-изгнания и возвращения звучит также в стихотворении той поры «Ликомеду, на Скирос», посвященном М[арии]
Б[асмановой], которое в окончательной редакции переименовано автором в «По дороге на Скирос» [II, 199]:
Я покидаю остров, как Тезей —
свой лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну — ворковать
в объятьях Вакха.
Миф в этом стихотворении служит, как заметил Верхейл, «повествовательной „маской“ для реальной ситуации лирического „я“» [175] и
позволяет поэту соединить комплекс мотивов: изгнания, измены, предательства. Попутно звучит формула: «Ведь если может человек вернуться /
на место преступленья, то туда, / где был унижен, он придти не сможет». Через много лет, находясь в изгнании, Бродский скажет: «Можно
вернуться на место преступления, но нельзя вернуться на место прежней любви».
Пока же изгнание, как ссылка в Норенской, кажется временным:
Когда-нибудь придется возвращаться…
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет,
с центральных площадей
и башен. А для странника — с окраин.
Имя Одиссея-Улисса не упомянуто, но мотив грозного возвращения, напоминает возвращение Улисса, покаравшего женихов. Как о том
повествует миф, к Ликомеду, царю долопов, правившему на острове Скирос, обращался за помощью не кто иной, как Тезей, после того, как
Менесфей захватил власть в Афинах и изгнал победителя Минотавра. Однако Ликомед, боясь Менесфея, отказал Тезею в помощи. Более того, по
одной из версий, он столкнул героя в пропасть, стремясь подольститься к Менесфею, что вводит тему предательства (по другой — Тезей
оступился сам[176]). В любом случае из подтекста следует, что возвращения не будет, и герой погибнет на чужбине.
Дальнейшим развитием мифа странствия-возвращения и своего рода предтечей стихотворения «Одиссей Телемаку» [III, 27], является, как
было уже отмечено, перевод (или переложение) Бродского стихотворения Умберто Сабы «Письмо» [IV, 250]:
Шлю два стихотворенья. Это чьи-то
последние слова на свете, между
собой той нитью связанные, коей
ни твой поступок юный, ни война
не оборвали.
Ежели тебе
текст этой средиземноморской грезы,
отстуканной на пишущей машинке,
понравится, вложи его, будь добр,
в оставленную мною при отъезде
тетрадку синюю, где есть стихи
о Телемахе.
Скоро, полагаю,
Мы свидимся. Война прошла. А ты —
Ты забываешь, что я тоже выжил.
В уже упомянутом предисловии к составленной им книге избранных стихов «Иосиф Бродский. Бог сохраняет все»[177], цитируя мысль
Бродского о преемственности и традиции («Там, где они кончили, ты начинаешь»), В. Куллэ отмечает связь между приведенным выше и
стихотворением «Одиссей Телемаку», а в одноименной статье, где довольно подробно разбираются переводы Бродского, Куллэ замечает, что
стихи «в тетрадку синюю, где есть стихи о Телемахе» дописаны Бродским[178], что еще больше указывает на то, что данный перевод следует
трактовать в контексте собственного творчества Бродского[179]. Действительно, оба стихотворения написаны белым ямбом, оба имеют форму
послания, правда, адресованные к разным адресатам: если «Письмо» так же, как и «Письмо в бутылке», адресовано третьему лицу, причем
адресат разбираемого стихотворения — мужчина («вложи его, будь добр, / в оставленную мною при отъезде / тетрадку синюю…»), то «Одиссей
Телемаку» адресован непосредственно сыну, причем уже в заглавии указаны как имя адресата, так и адресанта. Отметим также намек на некий
«поступок юный», который в свете предыдущих стихотворений и того, что он стоит в одном ряду с войной, читается как неблаговидный, и
впервые вводимую тему войны, равно как и того, что лирический герой стихотворения выжил, — все эти темы развиваются дальше в
стихотворении Бродского «Одиссей Телемаку» (1972), которое начинается с «остранения» мифа. Парадокс: «Троянская война/ окончена. Кто
победил — не помню» — заставляет поверить, что Калипсо добилась цели, лишив памяти автора данного «послания». Так называемый
перенос, enjambement, лишь заостряет парадокс. Следующие две строки, являющиеся парадоксом, доводят саму идею героического до абсурда:
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки…
Мотив неприятия действительности, бессмысленности бытия, каковым, по мнению лирического героя стихотворения Бродского является
время, проведенное на войне и в скитаниях (вспомним Мандельштама: «И покинув корабль, натрудивший в морях плотно, / Одиссей возвратился,