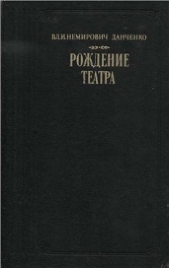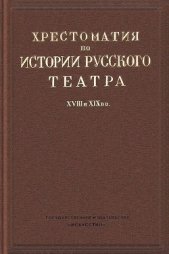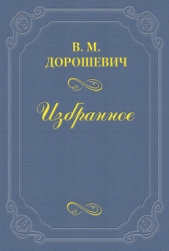Профессия: театральный критик
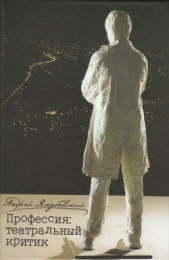
Профессия: театральный критик читать книгу онлайн
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как бы то ни было, в следующее десятилетие театр наш вошел в состоянии омоложения, которое, можно сказать, угрожало ему едва ли не впадением в детство. Если в идеологическом плане оставались существенные ограничения, то в художественном почти все они оказались сняты и отброшены. Проблема театральных направлений и школ со всей очевидностью себя исчерпала: по всему полю театрального поиска происходило постоянное усложнение, бытописательство мирно уживалось с театральными фантазиями, строгий психологизм соседствовал с публицистической открытостью. Сценическое творчество бурлило и пенилось, и, образно говоря, Станиславский то и дело пожимал в нем руку Мейерхольду.
Казалось бы, настало время, когда так многое стало доступным и возможным, когда пришла пора вступить в самое активное взаимодействие бытовой достоверности и открытой условности, психологическому реализму и поэтической театральности, — была бы для того основа. Было бы все это обеспечено цельностью режиссерского замысла, вырастающего из контекста реальной действительности и способного объемно осуществиться во всех компонентах спектакля, нацеленного на реализацию правды и поэзии, исповедничества и публичности, присущих сценическому творчеству, поверяющего условность, театру свойственную, безусловностью самой жизни, и наоборот. Словом — возврат к реальности мог совершиться только с учетом опыта "поэтического театра" прошлых лет и, что куда более важно, при возрождении некоторых весьма существенных духовных критериев творчества, глубоко укорененных в традициях отечественной культуры.
Определю эти критерии совокупно как нравственное отношение творца не только к предмету, но и к материалу своего искусства (Л. Толстой). Здесь уместно вспомнить и необычайно краткое пушкинское определение — "слова поэта суть его дела", и столь же необыкновенно пространное рассуждение Гоголя: "Если художник станет оправдываться каким-нибудь обстоятельством, бывшим причиной неискренности или необдуманности, или поспешной торопливости... тогда и всякий несправедливый судья может оправдываться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство— словом, мало ли на что можно сослаться..."
Оказалось, однако, что связь между — скажу так — нравственным бытием художника и цельностью его замысла, между жизненной полнотой его создания и театральной направленностью его усилий налаживалась в это театральное время чрезвычайно трудно. Сказалось ли тут отсутствие подлинной культуры театральных направлений, утративших актуальность прежде, чем они с достаточной полнотой и ясностью самоопределились, кристаллизовались в театральной практике, или просто отсутствие театральной культуры — гадать не буду. Не исключено, что на искусстве театра неблагоприятно отразилось и воздействие средств массовой коммуникации, наступление так называемой "мозаичной культуры" (А. Молль), пришедшейся как раз на этот период. Так или иначе, но с грехом пополам поднявшись до уровня нескольких сенсаций, театр крайне редко в ту пору одаривал нас потрясениями, возникновение которых, как кажется, вполне ожидалось ввиду возможности воссоздания на сцене не раз уже помянутой "жизни человеческого духа" совокупностью всех мыслимых и немыслимых театральных средств.
Правда, потрясения эти оказались незабываемы, а значение спектаклей, их породивших, выходит далеко за рамки того театрального времени. В их числе— "История лошади" и "Взрослая дочь молодого человека". О таких масштабных работах надо писать или много, или ничего. Ограничусь замечанием, что в обоих случаях на сцене возникал мир уникальный и целостный, в котором приметы мхатовского "душевного реализма" парадоксальным образом оказались сращены с методом "условной режиссуры", самые обыденные действия сгущались до значения обряда, а сценический ритуал оказывался насыщен поразительно точными психологическими открытиями. Взаимопроникновение реального и театрального, бытового и условного позволяло зрителям с необычайной интенсивностью переживать и правду, и поэзию этих постановок, проникать из одного ближайшего их плана в следующий, отдаленный, таким образом постепенно возвышаясь до истинного наслаждения искусством, до открытия важнейших граней реальности, духовного бытия человека. Здесь самосознание театрального творца торжествовало победу; здесь сквозь причудливый рисунок сценического действия просвечивала сама вечная душа театра...
Наконец, накануне "перестройки" и в первые ее годы театр получает мощный удар совсем с иного фланга: он становится жертвой политической актуальности и публицистической злободневности. Художник берет на себя работу, которую до него не успели выполнить историки и которую куда лучше него могла бы выполнить ежедневная пресса.
Нет никакой надобности отрицать общественную полезность многих пьес и спектаклей этого периода — театру от этого не легче. В литературе верх берет злободневная "политическая беллетристика" вроде романов А. Рыбакова, "эстетически уязвимых, но нравственно здоровых" (эта формулировка, взятая из газеты того времени, способна потрясти основы не только того или иного художественного направления, но, пожалуй, и самого искусства... Что ж, таково уж было это время!). На сцене — спектакли, содержание и смысл которых можно было передать одной-двумя фразами (правда, тоже весьма и весьма "нравственно здоровыми"), своего рода "позднесоветские" "piece a these", которым оказываются столь решительно противопоказаны многоплановость и многозначность, какие-либо художественные переживания, не говоря уже о потрясениях. Об очищении, о катарсисе в связи с этим рядом явлений говорить как-то даже неудобно... Когда же театр брал на себя нелегкую задачу расцветить политическую публицистику блестками театральности, то получались, как правило, либо всем памятные, должно быть, массовки в мхатовской версии "Так победим!", либо белая бурка на Троцком и красный флаг в руках у Бухарина в вахтанговской постановке "Брестского мира". Можно без преувеличения сказать, что брак театра с публицистикой в свете отдаленной и принципиальной перспективы развития отечественного сценического искусства был крайне неудачен и тягостен для обеих сторон. Театральность искажала и прими-тивизировала историческую или политическую идею, публицистика оглупляла и дискредитировала театр.
Конечно, то было время "бури и натиска" — скоро актеры и режиссеры дружно и кучно пошли в народные депутаты, в члены госсоветов разных степеней и уровней. С одной только, но весьма существенной оговоркой — то было время, "трудноватое для пера", в которое искусству неимоверно "трудно... быть искусством" (А. Марченко). Строго говоря, это время пережило, пожалуй, только одно произведение — великий фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние", сила которого, на мой взгляд, заключается не только и даже не столько в бескомпромиссной смелости постановки глобальной для нашего общества проблемы, сколько в художественном бесстрашии, несравненной выразительности образного языка, оказавшегося способным реализовать глубинные эстетические и познавательные качества кинематографа при его соприкосновении со сложнейшим жизненным материалом.
Впрочем, в этой ситуации и в театре нашелся художник, не побоявшийся плыть против течения, поддержавший— и поддержавший замечательно!— порядком к тому времени дискредитированное достоинство сценического искусства, напомнивший—очень спокойно, как бы между прочим,— о том, что у театра есть свои собственные цели и свои уникальные и весьма эффективные средства. Этим художником оказался Анатолий Васильев, творчество которого в контексте моих рассуждений обре-таетособоезначение.
"Школа драматического искусства" — так Васильев назвал свой театр — это вовсе не школа ремесла или профессионализма, как можно было бы предположить. Это школа именно драматического искусства с его извечными поисками "себя" в "других" и "других" в "себе", с его изначальной магией сценического волшебства, которое волнует, завораживает. Театр Васильева есть, образно говоря, "институт человека", который размещается в пространстве "института театра". Этот вклад режиссера в современный театральный процесс, как кажется, остается еще неоцененным, что вынуждает меня высказаться о его спектаклях несколько пространнее.