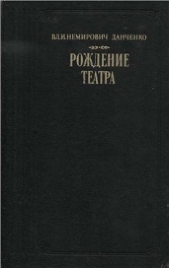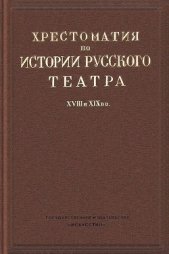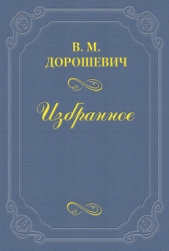Профессия: театральный критик
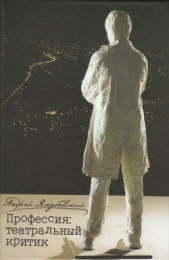
Профессия: театральный критик читать книгу онлайн
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Розовский заявляет без обиняков: "истинное зрелище всегда революционно", и рекомендует современному театру обратиться к опыту народного балагана, в котором, как можно понять, видит чуть ли не первооснову сегодняшних театральных исканий и залог грядущих побед режиссуры. Что же, по мнению Розовского, балаган способен дать современной сцене, что обещает он режиссеру?
"К балаганному стилю можно отнести все невероятное и причудливое, все ироническое и "оскорбительное", что попало на сцену из неот-фильтрованного сознания"; балаган "дает современному режиссеру право на многообразное использование самых забытых, самых экзотических, самых рискованных театральных средств". Честное слово, можно подумать, что многие режиссеры — от постановщика пьесы "Похожий на льва" в Ставрополе и "На всякого мудреца довольно простоты" в Пскове до создателей "Колонистов", "Автограда-ХХГ или "Мсье де Пурсоньяка" в Москве — постоянно держат в руках книгу Розовского. Оказывается, "своевольные дополнения, идущие от театра", и придают спектаклю "нравственно-философский современный аспект". Оказывается, "так называемое "чувство меры" в балагане измеряется по совершенно особой шкале, а потому не стоит стесняться в выборе "средств насилия" — лишь бы действовало! Лишь бы бросало из жара в холод, из огня да в полымя...". И под этими словами могли бы сегодня подписаться, наверное, многие режиссеры.
Стоит ли после этого удивляться таким, скажем, рекомендациям: "трюк— это раскрашивание того или иного эпизода...", "чем больше трюков-находок, тем насыщеннее становится зрелищная сторона спектакля, тем интереснее он для глаза", "эффектное режиссерское решение действует на зрителя своей новизной, неожиданностью формально-постановочных средств", и, наконец,— "эффектные режиссерские решения оправдываются всем симфонизмом театральных форм, живым и неповторимым актерским участием в зрелище". Что до последнего, то пусть ссылка на "живое и неповторимое актерское участие в зрелище" не смущает читателя: как только М.Розовский переходит к актеру, выясняется, что центр его забот составляют "некоторые профессиональные "секреты" внешнего актерского формотворчества".
М. Розовский сообщает множество полезных (в особенности, надо думать, для участников художественной самодеятельности) сведений об актере: "демонстративный характер актерского труда вечен и бесспорен"; "идейно-художественный результат артистического творчества получается в процессе показа, независимо от того, какими техническими средствами артист пользуется"; "зрителю мало только показывать — его надо еще и удивлять"; "зрители должны удивляться: "Как это у них так ловко получается?" Ссылаясь на К. С. Станиславского, М. Розовский пишет, что актер должен обладать "нахалином", то есть качеством "агрессивности", что трансформация — "средство, которым пользуются для подчеркивания игрового характера зрелища", — "выгодна артисту, так как он может с ее помощью полноценнее и разнообразнее раскрыть свое дарование". М. Розовский необычайно оригинально трактует "пластическую подготовленность" исполнителя, при этом ссылается — видимо, в качестве образца — на "старых русских провинциальных актеров", которые "умели достойно и пластично играть даже тогда, когда мастерства в изображении чувств и характеров им не хватало".
Мы рискнули прибегнуть к столь обильному и, вероятно, утомительному для читателя цитированию, чтобы не исказить мысли автора.
Итак, с одной стороны, режиссер, не стесняя себя в выборе "средств насилия" над публикой, прибегает к "самым экзотическим, самым рискованным" театральным решениям и "раскрашивает" спектакль трюками, оправдывая и то, и другое не содержанием произведения, но неким "симфонизмом театральных форм". С другой стороны, актер, мало преуспевший в "изображении чувств и характеров", играет, однако, "достойно и пластично", дивит публику чудесами трансформации, притом что, как утверждает автор, "идейно-художественный результат артистического творчества получается... независимо от того, какими техническими средствами актер пользуется". В любом случае оторопевший от удивления зритель оказывается взбудоражен вопросом: "Как это у них так ловко получается?!"
...А что, собственно говоря, получается?
Получается апология пресловутого спектакля-зрелища, живущего за счет безграничной театрализации, нарочитых и самоценных условно-театральных форм, оторванных от содержательных корней искусства — от жизни. Получается апология гипертрофированного сверх всякой меры ремесла, раздутого эгоизма самовлюбленного ремесленника.
Стоит ли после этого удивляться, что М. Розовский рекомендует режиссерам "научиться применительно к своей личностной художественной задаче суметь выхватить из чужого достижения или поражения некий формально существенный элемент и переключить в новый вид, необходимый теперь режиссеру зрелища". К сожалению, сегодня это происходит слишком часто, как и многое другое, что восхваляет автор книги "Режиссер зрелища".
Книга М. Розовского, как нам представляется, написана вослед театральной практике, и ее "теоретические" выкладки подводят некоторые итоги процесса перерождения условно-театрального стиля в величину нетворческую и нехудожественную. Но, как это часто случается, "теоретические" рассуждения, возведенные на основе театральной практики определенного типа, в свою очередь начинают влиять на театр. Вторичное по отношению к искусству суждение "теоретика" воспринимается уже как "путеводная нить" творчества самого современного типа, почитается иными как руководство к действию, ведет к созданию спектаклей согласно рекомендованным выше рецептам...
* * *
Не будем гадать, читал ли книгу "Режиссер зрелища" Марк Захаров, но его постановка чеховского "Иванова" на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола есть, на наш взгляд, полное и, так сказать, химически чистое осуществление идеи М. Розовского. Автор книги является горячим сторонником "балаганного освоения" произведений драматургии, включая сюда и пьесы Чехова. Когда М. Розовский пишет: "Чехов неспроста называл свои работы комедиями", "момент шутовства остался здесь... как алогичный психологизм", "картины жизни", созданные Чеховым, "в известный момент своего сценического развития, безусловно, будут восприниматься как гротесково-фантасмагорические", персонажи Чехова— "клоуны по натуре", "неошуты", — он рыхлит таким образом почву для спектакля Театра имени Ленинского комсомола.
Постановка Захарова представляется нам весьма элементарной по своей концепции, без лишних сложностей, сведенной к утверждению, что Иванова "среда заела", что герою надо бы, как ему рекомендует Лебедев, "глядеть на вещи просто, как все глядят". Герои первого плана — прежде всего Иванов и Анна Петровна — решаются в психологическом ключе, тогда как остальные персонажи, представляющие в спектакле "среду", — в ключе театральной эксцентрики и лжегротеска. Соответственным образом, если воспользоваться словами Лебедева, в спектакле то "воздух застывает от тоски", то он "раскрашивается" серией режиссерских и актерских трюков. Им и отдано все внимание постановщика, на них и растрачивается энергия актеров.
Режиссеру, как нам показалось, совершенно безразлично, что обострять и как обострять — лишь бы действовало на зрителя, "лишь бы бросало из жара в холод, из огня да в полымя". Здесь персонажи, обряженные в белые костюмы, ставшие своего рода "прозодеждой" спектакля, бегают гуськом из двери в дверь, принимают позу групповой "семейной фотографии", выглядывают справа и слева из дверей, с любопытством наблюдая за Ивановым, наконец, — бранясь, толкаясь и поднимаясь на цыпочки, теснятся вокруг Иванова, кончающего с собой. Здесь в ответ на реплику Зюзюшки: "Егорушка, потуши свечи! Зачем им гореть попусту?" — рослый детина выдерживает томительную паузу, величественно подходит к авансцене, во всю силу своих легких дует в зал, и сцена мгновенно погружается во тьму.... Так происходит... четыре раза. Здесь в наступившей темноте Боркин и Шабельский устраивают возню с Бабакиной, чьи истерические реплики: "Вы меня совсем встревожили...", "мне дурно...", "я падаю..." — звучат через паузы, заполненные недвусмысленным пыхтением и красноречивыми шлепками. Здесь опрокидывают стопку и "занюхивают" ее колодой карт; Боркин дважды ползет через всю сцену на животе; куда бы ни пошел Шабельский, один из гостей неизменно оказывается у него на пути. Здесь ни с того, ни с сего открывают кран самовара и очень долго и глубокомысленно следят за струйкой воды, текущей прямо на пол...