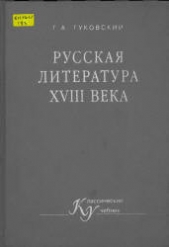Классическая русская литература в свете Христовой правды

Классическая русская литература в свете Христовой правды читать книгу онлайн
С чего мы начинаем? Первый вопрос, который нам надлежит исследовать — это питательная среда, из которой как раз произрастает этот цвет, — то благоуханный, то ядовитый, — называемый русской литературой. До этого, конечно, была большая литература русская, но она была, в основном, прицерковная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Солженицыну дали восемь лет (45-53 годы) по статьям 5810 и 5811, то есть АСА (антисоветская агитация индивидуальная и антисоветская организация, потом это стало называться КРД) [265]. Это был срок, который давался просто за житье на оккупированной территории.
Солженицын освободился до смерти Сталина, день его прибытия на место ссылки в Кок Терек в Казахстане – день смерти вождя.
В лагере Солженицын, конечно, получил свое воспитание и не без оснований его сравнивает с Достоевским архиепископ Иоанн Шаховской.
Иоанн Шаховской сравнивает его с Достоевским, прежде всего в смысле личного пути, то есть все-таки формирование личности Достоевский получил на каторге. “Гулаг” Солженицына Иоанн Шаховской сравнивает с “Мертвым домом” Достоевского и во многом отдает “Гулагу” предпочтение, но начиная с “Преступления и наказания” всякое сравнение с Фёдором Михайловичем неуместно, да и безнадежно.
После лагеря Солженицын писал, что “позднее понимание стало прорезаться в нас морщинами”. Воспитание, конечно, шло через других заключенных, и позднее понимание, “прорезающееся морщинами”, стало его взросли́ть.
Советского человека держали ребенком до могилы, как у Блока это названо люди, “которым в жизнь до смерти рано, они похожи на ребят”. Советский человек и должен был быть несмышлёнышем до мытарств, потому что он должен был, как сказано у Солженицына, “слушать радио от гимна до гимна”, так как только в радиопередачах и в передовых статьях газет, по преимуществу в “Правде”, он должен был черпать, так сказать, весь свой символ веры, все свои убеждения и, вообще, все, что ему думать и чту говорить.
В этом позднем понимании Солженицын задает себе первый вопрос: сколько было лагерных самоубийств? Оказывается, что самоубийств чрезвычайно мало: с этим пыточным следствием, которого дореволюционная Россия не знала никогда, с этим избиением по седалищному нерву резиновой дубинкой, с этой солёной клизмой и так далее; с этим измором лагерей – нет самоубийств; с этим издевательством вместо питания – нет; с этой безнадежностью, с предательством родных и близких, притом и на предательство-то воспитывают, - нет. Конечно, что даже это уже способно начать воспитывать.
Потом, уже выйдя, Солженицын начинает изучать народные пословицы, вот эту народную мудрость и получает хорошую шлифовку – сума да тюрьма дадут ума.
Начиная с некоторых пор, он и его товарищи по несчастью становятся равнодушными ко дню освобождения: кто искренне, а кто не очень, но воздух лагерный - он такой; – а разве в этой стране есть свобода? Глава о свободе в “Гулаге” называется “Замордованная воля”. Но лагерных самоубийств нет. Именно поэтому он говорит потом об инфантильности и просто глупости Запада. Так вот – от напасти не пропасти бы. Надо ее пережить.
Как он пишет в этом смысле: “Надо ее пережить, это в отличие от каторжников Достоевского: там у большинства безусловное сознание вины, у нас сознание какой-то многомиллионной напасти, а от напасти не пропасти, надо ее пережить. Не в том ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства, но еще больше он вспомнит побегов, побегов-то гораздо больше, чем самоубийств. И членовреждений гораздо больше, - так это тоже простой расчет: пожертвовать частью для спасения целого. Мне даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически меньше, чем на воле. Проверить этого я не могу, конечно.
Вот вспоминает Скрипникова, что в 31-м году в Медвежьегорске в женской уборной повесился мужчина лет 30-ти и повесился в день освобождения, так, может, из отвращения к тогдашней воле?” (Но это уже – полное искажение сознания – В.Е.).
Здесь можно навести кое-какие параллели. Можно вспомнить декабриста Ивана Ивановича Горбачевского (Южного общества), который в Чите явно умом тронулся. Так вот, он категорически отказался выходить из читинской тюрьмы, потому что, говорит, “насильно засадить в тюрьму можно, но вытащить оттуда насильно нельзя”.
Собрали медицинскую комиссию и зарегистрировали некоторые отклонения; и так как декабристам, выведенным на вольные поселения, были возвращены некоторые гражданские права, то ему тут же собрали маленький опекунский совет из тех же декабристов; поместили под эту опеку.
Вольнопоселенцам могли посылать до 2000 в год – это доход средней руки помещика; все жили с прислугой (русская прислуга всегда отличалась большим тактом) и Иван Иванович жил себе потихоньку.
А в этом случае – полное искажение сознания, полное безверие и неумение отдать себя в руки Божии.
“Но вот в клубе центральной усадьбы Бурелома повесился конструктор Воронов; коммунист и партработник Арамович – пересидчик (которого после окончания срока не отпускают); повесился в 47-м году на чердаке мехзавода в Княж-Погодске.
В Краслаге в годы войны литовцы, доведенные до полного отчаяния, а главное, всей жизнью своей не подготовленные к советской жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили.
В 49-м году в следственной камере во Владимире-Волынском молодой парень, сотрясенный следствием, уже было повесился, да однокамерник Павло Баранюк его вынул.
На Калужской заставе [266] бывший латышский офицер, лежавший в стационаре санчасти, крадучись стал подниматься по лестнице - она вела в еще не достроенные пустые этажи; медсестра зэчка хватилась его и бросилась вдогонку, настигла его в открытом балконном проеме 6-го этажа, вцепилась в его халат, но самоубийца отделился от халата, в одном белье поспешно вступил в пустоту и промелькнул белой молнией на виду у оживлённой Большой Калужской улицы [267] в солнечный летний день.
Немецкая коммунистка Эми, узнав о смерти мужа, вышла на мороз неодетая - простудиться; англичанин Келли во Владимирском ТОН-е виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзирателе на пороге (оружием его был кусочек эмали, отколупнутый от умывальника).
Повторяю, еще многие могут рассказать подобные случаи, а всё‑таки на десятки миллионов сидевших их будет немного. Даже среди этих примеров видно, что большой перевес падает на иностранцев, на западников: для них переход на архипелаг – это удар оглушительнее, чем для нас, вот они и кончают, и еще – на благонамеренных, то есть коммунистов. Можно понять, ведь у них в голове всё должно смешаться и гудеть не переставая – как устоишь?
Зоя Залесская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая “делу коммунизма” путём службы в советской разведке, на следствии трижды кончала с собой: вешалась – вынули, резала вены – помешали, скакнула на подоконник 7-го этажа, дремавший следователь успел схватить ее за платье. Трижды спасли, чтобы расстрелять.
И, вообще, как верно истолковывать самоубийство? Я не спорю, для самоубийства, может быть, и в самом крайнем отчаянии еще нужно приложить волю.
Всю жизнь я был уверен, что никогда не додумаюсь до самоубийства. Но не так давно протащило меня через мрачные месяцы, когда мне казалось, что погибло всё дело моей жизни, особенно если я останусь жить. Но, вероятно, у разных людей и при разной крайности это по‑разному”.
Неверие – “дело моей жизни” становится идолом и нет упования и нет доверия, прежде всего, к Божьей любви.
“Но вот не было этого (повальных самоубийств). Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведённые кажется до последней крайности, а самоубийств почему-то не было. Обречённые на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд, не кончали с собой.
И раздумавшись, я нашел такое доказательство более сильным. Самоубийца всегда банкрот, это всегда человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения ее. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей всё же не кончали с собой, значит, жило в них какое-то непобедимое чувство, какая-то сильная мысль. Это было чувство всеобщей правоты, это было ощущение народного испытания, подобного татарскому игу”.