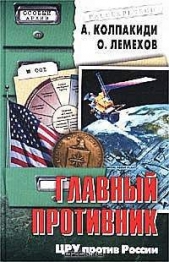Икона и топор

Икона и топор читать книгу онлайн
Эта книга представляет собой истолкование истории русской мысли и культуры нового времени. В ней воплотились знания, размышления и сфера интересов одного исследователя. У автора не было иллюзий относительно тех задач, которые он перед собой ставил: книга меньше всего претендует на то, чтобы явить энциклопедический свод русского культурного наследия или снабдить читателя «ключом» к его пониманию. Здесь произведен отбор материала, который призван не просто обобщить то, что уже и так хорошо известно, но ввести в оборот новые факты и дать им объяснение: не столько «охватить» эту необъятную тему, сколько обозначить подступы к ней.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Победившая революция принесла с собой новые немыслимые явления иронии. По иронии, революция, совершенно стихийно начатая в феврале 1917 г. и получившая поддержку широкой коалиции демократических сил, была задавлена самой малочисленной и наиболее тоталитарной из оппозиционных сил, которая не сыграла почти никакой роли в свержении царизма. По иронии, коммунизм пришел к власти на крестьянском Востоке, а не на промышленном Западе, да еще и в России, которую Маркс и Энгельс особенно не жаловали и которой не доверяли. По иронии, идеология, так пылко твердившая об экономическом детерминизме, оказалась в полной зависимости от утопических призывов и личного лидерства Ленина. По иронии, революция, овладев властью, уничтожила своих творцов, и многие из самых первых, обеспечивших большевистскому перевороту в Петербурге серьезную основополагающую поддержку (пролетарские вожди «рабочей оппозиции» и матросы Кронштадта), первыми же были жестоко раздавлены новым режимом, потому что в 1920–1921 гг. требовали, в сущности, тех же реформ, которые четырьмя годами раньше выдвигали по наущению большевиков.
По иронии, едва ли не самый решительный отказ от демократии произошел как раз тогда, когда Россия формально приняла, казалось бы, образцовую демократическую Конституцию 1936 г. По иронии, сталинский поход против творческого искусства начался как раз тогда, когда Россия находилась на передовом рубеже творческого модернизма. По иронии, репрессивные органы, на которые народ был менее всего способен воздействовать, именовались «народными».
По иронии, СССР добился успеха там, где, по мнению большинства, Должен был потерпеть поражение, — в разгроме Германии и в завоевании космоса. Но пожалуй, самая большая ирония заключается в том, что советское руководство потерпело неудачу в той сфере, в которой, как думали почти все, ему автоматически был обеспечен успех, — в коммунистической идеологизации собственной молодежи. Какая огромная ирония: послевоенное поколение русских, самое привилегированное и идеологизированное из всех советских поколений и даже эпизодически не соприкасавшееся с внешним миром, не в пример тем, кто воевал, — именно это поколение оказалось самым чуждым всей официальной этике коммунистического общества. Сколько иронии в том, что коммунистические лидеры именуют молодежные брожения «пережитками прошлого» и — это уже куда более привычно — что частичные реформы ведут не к благодарному умиротворению, а к растущим волнениям.
Эта примечательная ситуация не лишена иронического смысла и для западноевропейского наблюдателя. Несмотря на формальную, риторическую веру в свойственное человеку стремление к правде и свободе, Запад на удивление неохотно прогнозировал (и медлил признать), что такие идеалы станут в СССР столь неодолимо притягательными. В последние годы правления Хрущева многие были склонны предполагать, что эволюционное видоизменение деспотизма продолжится без фундаментальных преобразований, т. е. проецировали в будущее тенденции ближайшего прошлого. Нередко столь же непререкаемо верили, что СССР (а может быть, и США) естественным образом эволюционируют к промежуточной позиции между сталинским тоталитаризмом и западной демократией [1608]. Конечно, может быть, такой гармоничный итог и оправданно он бы отнял у разума всякую хитрость и явился ошеломляющей победой Аристотелевой золотой середины в обществе, которое так и не усвоило классических идей умеренности и рациональности.
История культуры не может дать чистого прогноза, но не может не подчеркивать важность национального наследия и жизненной силы брожений сегодняшнего дня. Эти брожения не похожи на коэффициенты в математическом уравнении, которое можно решить на компьютерах восточных политманипуляторов или западных ученых-политологов. Брожения в нынешнем СССР скорее напоминают неведомые растения на выжженном поле. Никто не знает, растут ли они от давних корней или от новых семян, занесенных откуда-то ветром. Только время покажет, произойдут ли в ландшафте разительные перемены. И все же само появление всходов говорит о том, что почва плодородна, и даже если они погибнут, их листва станет перегноем для более крепкой грядущей поросли.
Необходимым условием роста в последующие годы будет сохранение относительно мягкого международного климата послесталинской эпохи. Не слишком мрачные грозовые тучи с Востока или с Запада обеспечат прохладу. Свежие порывы жизни из соседних стран, быть может, дадут мощный стимул роста культуре, которая всегда откликалась на обогащение извне, и миру, который все больше становится взаимозависим. Уже включение в орбиту России таких традиционных врагов на западных ее границах, как Польша и Венгрия, не принесло желаемого результата, не усмирило эти нации, но, по иронии, привело к тому, что в советской сфере усилились прозападные брожения. Незачем говорить, сколь важным для будущего советского развития может оказаться расширение контактов с Западом или возрождение идеологического энтузиазма на самом Западе.
Нельзя уповать на то, что СССР автоматически эволюционирует к демократии, как нельзя было и ожидать поворота к демократии при Сталине. Силы внутри одной культуры существуют не затем, чтобы служить целям другой; и привычные нам институциональные формы либеральной парламентской демократии все еще непостижимы для многих русских. Но вполне возможно, что Россия разовьет новые социальные и художественные формы, о которых ни Восток, ни Запад сейчас и не догадываются и которые будут отвечать неистребимой потребности русского народа в человеческой свободе и духовном обновлении. Если Запад может поделиться чем-либо по-настоящему ценным и найдет прямые и нечванливые способы это сделать, он почти наверняка сможет сыграть в этом процессе ключевую роль. Ведь нигде нет столь огромного любопытства к Западу, и в частности к Америке, как среди молодежи СССР. И нигде разочарованность нехваткой духовной живости на Западе не ощущается так остро, как среди беспокойной молодежи СССР, которая нетерпеливо ищет ориентиры в своих неутоленных поисках положительных целей и новых подходов. Иронией вдвойне, и страшной иронией, будет, если американское филистерство невольно толкнет часть русской молодежи к сотрудничеству с коммунистической идеологией, к отказу от которой их побуждает и русская традиция, и современная советская действительность.
«Человек очень талантливый и порядочный» — так один персонаж пьесы «Все остается людям» со спокойным одобрением отзывается о другом; и эту фразу, пожалуй, вполне можно отнести к молодому поколению в СССР. Поиски по-прежнему не завершены, надежды не сбылись, и все культурное обновление порой кажется эфемерным миражем. Но поскольку в истории все в конечном счете остается незавершенным, стоит, наверное, обрисовать в заключение ироническую перспективу касательно самой действительности.
На самом пике сталинского обмана, в полуофициальном портрете революции — романе Алексея Толстого «Хождение по мукам», — некому юродивому грезится, что великий город Петербург, насильственно воздвигнутый из страданий многих тысяч людей, всего лишь мираж, который внезапно исчез, как его и не было. И фантасмагория советского строительства, которая мнится нам самым что ни на есть реальным фактом советской истории, быть может, всего лишь отражение нашей собственной, по сути, материалистической идеи реальности. С другой стороны, русские всегда были народом мечтательным и идеологизированным, крайне восприимчивым к героическим перспективам реальности, какие мы находим в таких произведениях, как «Жизнь есть сон» Кальдерона и «Буря» Шекспира. Может статься, лишь те, кто пережил бурю сталинизма, окажутся, подобно Просперо, способны посмотреть на нее как на «легкие виденья», сознавая, что «пышные дворцы и башни, увенчанные тучами, и храмы» лишь-«как облако растают», и по-новому осмыслить заключительное утверждение Просперо, что сами люди «созданы из сновидений».
Терц говорил о «восторге» молодого поколения перед «метаморфозами Бога… чудовищной перистальтикой его кишок— мозговых извилин» [1609]. В самом деле было бы иронией, если б Бог пребывал в изгнанье на «атеистическом» Востоке и культура, рожденная средь его безмолвного страдания, оказалась значительнее культуры говорливого и сытого Запада. Но такова, наверное, ирония свободы, которую так ценят те, у кого ее нет, и оскверняют те, кто ей обладает. В этом тоже вечная ирония творческой культуры, которая приходит на свет через мучительное самоотречение индивида, открывающегося навстречу великим мирам. Подлинное творчество в нынешнем СССР включает добровольное страдание или, по выражению Пастернака, попытку «сосредоточенного отречения, отдаленно и неуклюже напоминающего Вечерю Господню».