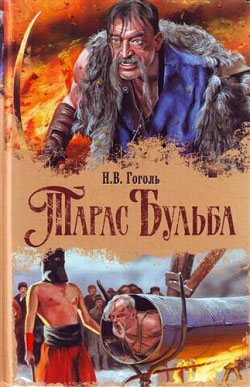Romanipen (СИ)

Romanipen (СИ) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Та и не поспевала за Данко в танце, хмурилась досадливо, спотыкаясь. А он смеялся и шел еще быстрей и затейливей. Петя уж смотреть на это не мог, отворачивался и все ждал, когда же окончится.
И не выдержал скоро — встал и прочь пошел. Показалось вдруг, что смотрят ему в спину, но как повернулся — так же Данко плясал. Да и зачем цыгану смотреть-то на него? Точно, показалось.
Петя полночи заснуть и успокоиться не мог. Вот оно, счастье, какое — когда в груди тесно, до сих пор скрипка внутри пела, едва улыбку Данко вспоминал. Словно и не жил до того, как встретились.
Он долго лежал и мечтал. Есть ведь у каждого в юности затаенное желание — любовь найти, да такую, чтоб навсегда, единственную свою. Оно пропадает, конечно же, как раз-другой обожжешься, а потом и вовсе без смеха не подумаешь об этом. Но вот Пете до сих пор о таком мечталось, хоть и побила его жизнь, хоть войну прошел и много чего навидался. И вот же она, мечта — здесь, рядом. Осьмнадцать лет — самое время влюбиться без памяти.
Про барина Петя так ни разу и не вспомнил, засыпая.
А утром понял он, какие же глупые у него мысли были. Словно ледяной водой его окатили — мигом ясность пришла и рассудок вернулся.
Он в кибитке с Кхацей ехал, как только дети и старики. Молодые-то цыгане все на конях были. Оно и понятно, что пока больной еще, да и лошади своей попросту нет.
Он как с утра садился туда — парни цыганские мимо проходили. А среди них, впереди, Данко шел. Кивнул вдруг на него, и Петя обрывки разговора услышал. Он по-местному сам плохо говорил, но понимал.
— А он кто? — спросил Данко.
Они мимо прошли, но ответ Петя успел разобрать. Слово «холоп» там мелькнуло, и Данко усмехнулся.
А Петя потом полдороги в углу кибитки как прибитый лежал. Любовь, единственная… Конечно же! Он бы еще прямо в самое небо смотрел, толку бы и то больше было. Так его на место и поставили одним словом. Данко — цыган, удалой, отчаянный, по всем здешним краям его знают. А он холоп, которого из жалости выхаживали, и вообще неизвестно, что он в таборе делает.
Но мало того! Едва Петя успокоился немного, как стук копыт за кибиткой раздался. Цыгане молодые мимо проезжали, и опять голос Данко раздался.
— А он где, беглый-то этот? Он на лошади не умеет, что ли?
Смех в ответ послышался, и они мимо проскакали.
Беглый!.. Хотя беглый-то он и есть, если честно посмотреть. Но не в том дело, как назвали. А вот что про лошадь сказали — словно ножом по больному месту, по гордости. Он — не умеет! Да может, и получше их, но поздно доказывать-то уже, раз подумали так про него.
Да ведь его только пожалеть-то и можно, больного. Смех вспомнить, как ночью душа пела. Улыбнулся ему Данко, вот еще. Тогда-то не знал, что он холоп, да еще и цыган наполовину только — а теперь и не взглянет, как рассказали. И сиди вздыхай по нему теперь.
— Ну-ка делом займись, — Кхаца спутанные нитки ему бросила.
Петя вспыхнул: работа-то детская! Но взял все-таки, стал в клубок собирать. У него руки дрожали, в глазах темно было. Так и звенели в ушах обидные слова про лошадь. Вот приехал бы Данко на месяц позже — он бы и выглядел по-другому уже, и достал бы эту лошадь клятую.
Но за работой мысли яснее пошли, как нашлось, чем руки занять. Петя представил вдруг со стороны себя: услышал слово обидное и не плачется едва. Вот позор! Он-то будто за всю свою жизнь от дворовых не наслушался? И будто отвечать так не умел, что те языки прикусывали? А тут — даже и не обозвали, сказали просто, как есть. А уж на правду стыд обижаться, даже если неприглядная она и в глаза ею тычут.
Он усмехнулся, заканчивая клубок вязать. А вот докажет он еще, что хоть и холоп, а получше некоторых цыган. А что красоты не осталось — тоже не страшно, не одним хорошеньким личиком он жил, а еще много чего умел.
Пусть только Данко улыбнется еще хоть раз ему, как ночью. За такую улыбку что угодно сделать можно, хоть душу чертям продать. Пусть хоть один взгляд бросит — и сердце запоет, и тогда горы свернуть можно будет.
***
Всегда Петя своим умом жил, ни на кого не смотрел и советам не следовал, делал то, что сам верным почитал. Да и некого слушать было: с малолетства один остался, учился сам всему. Барин — не в счет, от него редко что дельное услышать можно было.
А войну пройдя, Петя вовсе взрослым и опытным себя мнил. И ставил себя высоко, чего уж греха таить: в гусарской кампании умел держаться, офицеров завлекал, а уж барином как хотел, так и вертел.
Да это давно было — до раны, до болезни еще. А вот только оправляться начал — Данко появился. И уж явно не к добру.
Вот теперь понял Петя, как по нему самому мучились, а тронуть не могли. «Чем поиграешь, тем и зашибешься», — верные, мудрые слова были, а он-то не верил. Вот уж точно, зашибло — словно обухом по голове, да так, что всякое разуменье потерял.
А все цыган зеленоглазый — как же Петя клял его! Но злился-то на себя, конечно: что взгляд от него оторвать не мог и из мыслей выкинуть. Да и как не глядеть на него! Данко на коне гарцевал, красовался чуть в стороне от кибиток. Он отъезжал вперед дорогу проверить, и Петя тогда ловил себя на мысли, что высматривал его и ждал, когда же покажется. Нарочно в угол кибитки забивался, но все равно глазами косил, а скоро и вовсе не выдерживал и снова любовался.
Данко и не замечал словно: на него ж весь табор так смотрел, цыганки молодые вздыхали наперебой. Но иногда оборачивался вдруг и усмехался, откидывая кудри со лба. Петю злило это ужасно: понятно, что красив, но зачем показывать еще? А внутри грелась злорадная мыслишка: помнится, сам так делать любил, вертясь перед офицерами, и нечего на Данко пенять.
На него и за щегольство еще озлиться можно было — выискался, мол, петух разряженный, пана строил из себя. Но если приглядеться, то не кичился он: рубашка-то богатая, а сапоги разношенные и удобные, штаны затертые, хотя пояс блестел. Ясно, что не наряжался нарочно и не смотрел за этим, просто деньги лишние тратил на себя.
Он за деньгами и не следил: кому надо, тот и возьми, коли нужны, а вернуть он и не спрашивал потом. Широкая у него душа была, вольная, щедрая. Но не без гордости, конечно — уж этого добра хоть отбавляй, но понятно ведь, что если самым удалым да удачливым слыть, то свысока на всех прочих смотреть будешь. С цыганами высоко себя держал, старики с ним как с равным говорили, а молодые и вовсе с открытыми ртами ходили за ним. Навидался он много чего, бродяжничая, про разные края рассказывал так, что заслушаешься. А как скрипку или гитару брал — от костра не уйти было. И пел как! Языка мог не знать, а напеть умел — и по-цыгански, и по-румынски, и еще бог знает по-какому.
А на него, Петю, он разве глянул бы? Ясно, что нет. Но Петя отступаться не привык, слишком сильно по его гордости ударил Данко — обида в нем вспыхнула, что тот лучше него оказался. Глупо и бесполезно было соперничать, но Петя такой был: чужие слава и уменья покою не давали, самому так же хотелось.
Теперь-то было, перед кем себя показать, чтоб оглянулся хоть. Ни много ни мало взял — на вольного дерзкого цыгана равняться. Но Петя твердо решил — если уж не лучше Данко стать, то таким же хотя бы вполовину.
Начал он с того, что щадить себя перестал. Подумаешь, болезный, так рана зажила давно. Так-то его не заставляли наравне со всеми работать, давая выздороветь. Он и не напрашивался: отдохнуть-то, оно приятно. Но не отлеживаться же перед Данко, чтоб жалел еще. Петя теперь так себя вел, словно и не было раны: за любое дело в таборе брался, помогал всем, к костру вечером последний приходил. А то, что еле сидел там, а потом отсыпался весь день — того не видел никто. Трудно было после того, как целую зиму проболел, тело отвыкло совсем, все кости болели — а Петя только зубы стискивал в самой тяжелой работе. А подгадывал так, чтобы Данко непременно видел. Пусть посмотрит, как холоп более всех трудится, пока цыгане молодые от любого поручения увиливают.