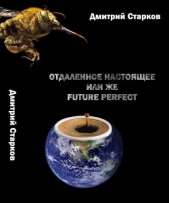Волки и медведи

Волки и медведи читать книгу онлайн
В отдаленном будущем Петербург ничуть не более безопасен, чем средневековое бездорожье: милицейские банды конкурируют с картелями наркоторговцев, вооруженными контрабандистами и отрядами спецслужб. Железный Канцлер Охты одержим идеей построить на развалинах цивилизации Империю. Главный герой, носитель сверхъестественных способностей, выполняя секретное задание Канцлера, отправляется в отдаленные – и самые опасные – районы города.
Роман еще в рукописи вошел в Короткий список премии «Национальный бестселлер» – как и роман «Щастье», в продолжение которого он написан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да, его с места в карьер спросили про «Сагу». И первые неизбежно глупые вопросы («Кто из персонажей нравится больше всех?», «На кого вы делаете ставки?» и «Чему искусство нас учит?») не принесли грозы. Он ответил, походя пнув авторов за корявые диалоги. Ведущий тут же прицепился.
– Вас это раздражает?
По-настоящему Фиговидца раздражало только одно: неуместное, неистребимое и непонятное ему пристрастие «Саги» к уменьшительным суффиксам. «Делишки», «водочка», «ладненько», «ресторанчик», «магазинчик» – и даже «сортирчик» и «притончик», – он воспринимал их с дрожью, как скрип стекла, визг детей и подобные неприятные звуки. («Такая грубая жизнь, откуда в ней это?») Он не понимал, что грубая жизнь бессознательно стремится себя умягчить, но, слепоглухая к языку, неспособная его чувствовать, выбирает те самые слова, которые для абсолютного слуха становятся жупелом, торжествующим флагом жлобства, пошлости, дешёвого хохмачества. (Слово «хохмач» он тоже ненавидел.) Безумная надежда, корчащаяся душа нелепо заклинали демонов, утверждая, что притончик не так страшен, как притон, а магазинчик дружелюбнее магазина. Фарисей не слышал этого умоляющего голоса, и его абсолютный слух схватывал фальшь, упуская мольбу.
– Ну как раздражает… Для переворотов в языке требуется нечто большее, нежели простая неспособность выражать свои мысли.
– По моему мнению…
– Кого интересует ваше мнение? – капризно перебил Фиговидец. – Интервью-то со мной.
Я не знаю, памятником чего он хотел водрузить это интервью в народном сознании. («Упражнения в остроумии – это такая лакмусовая бумажка, которая проявляет и качество ума, и его меру. Как только человек принимается острить, всё лезет наружу: и то, что он глуп, и то, что он жлоб».) Прежние попытки – сколько раз он выходил к народу как человек – неожиданно показались ему капитуляцией, не только бесславной, но и ненужной, и вот он вышел и заговорил как истинный фарисей, с настоящим презрением, презрением, которое может взять тон какой угодно – снисходительный, насмешливый, манерный, чопорный, – но никогда не снизойдёт до объяснений.
– Журналист плох вовсе не потому, что продажен, – вещал Фиговидец. – Продажность – ещё не катастрофа, она ничем не компрометирует естественное течение социальных процессов. Сама сущность профессии содержит изъян. И вы, и дорогие радиослушатели наверняка читали у Моммзена прекрасную характеристику Цицерона. «Журналистская натура в худшем значении этого слова, речами безмерно богатый, мыслями же невообразимо бедный, он не знал ни одной области, в которой не был бы в состоянии с помощью немногих книжек, переводя или компилируя, быстро составить легко читающуюся статью». – Он перевёл дыхание. – Понимаете? Поверхностность в симбиозе с недобросовестностью – не берусь решить, какая черта первична, – искажают любой предмет исследования и кладут позорное пятно на любые усилия исследователя, даже когда тот полон искреннего энтузиазма. Как сказал другой древний автор: «Это, понятное дело, уже не похвалы, а просто вопли». – И Фиговидец перевёл дыхание ещё раз.
Мы с Мухой слушали это интервью у Ефима, за круглым столом – с картошечкой и бутылкой – в отведённой фарисею комнате. Здесь на подоконнике лежали его бумаги и краски, здесь оставшийся за сторожа запах одеколона гулял по сквозняку и так и не выветрился. И Фиговидец, в это время сидевший в эфирной студии номер пять («странно, пятая есть, а четвёртой – нет»), был среди нас скорее вещами и запахом, чем голосом, потому что голос, неуловимо, но изменённый техникой и расстоянием, потерял именно ту малость, которая делала его родным и привычным.
– О чём это он? – спросил Муха.
– Верно говорит, – сказал Ефим. – Продажные все паскуды. Вот у нас на производстве случай был…
– Потом расскажешь.
Осоловевшими медведями мы сидели за накрытым столом, а на расстоянии в несколько кварталов тоже за столом, но пустым, ободранным и в форме буквы «Е», сидел и пялился в окно («а в стене окно почти во всю стену – только не на улицу, а в операторскую») Фиговидец, и между нами лежали царства холода, глуби мрака и резкий мёртвый свет фонарей.
– Как вам кажется, про нашу, автовскую, творческую молодёжь можно сказать, что это представители нового творческого поколения?
– Нет, – сказал Фиговидец недовольно.
– Вы не считаете, что они ни на кого не похожи?
– Нет.
– Они оживили нашу культурную жизнь! Кружок единомышленников, с целями, задачами и манифестом, провозгласившим что-то новое, по определению и сам будет чем-то новым, да?
– Я дважды сказал «нет». Мне остаётся только спросить: может, у вас имеется свой взгляд на значение этого слова?
– Кого интересуют мои взгляды? – сказал злопамятный ведущий.
– Ну наконец-то, – барски похвалил его Фиговидец. Он вздохнул. – Вы говорите об «оживлении» культурной жизни, и невозможно не спросить, неужели до того она была мёртвой… оставаясь при этом жизнью. Конечно, конечно, – пробарабанил он нетерпеливо, поскольку собеседник явно пытался что-то вставить. – У вас на памяти малоудачный плеоназм «живая жизнь». Я бы не полагался на фигуры речи… когда речь заходит о вещах, которые у всех на виду.
– Это он к чему? – спросил Муха.
– Всё верно, – сказал Ефим. – Брешут, брешут, а подойди, возьми такого за плечико… Вот случай был с нашим разноглазым…
– Потом расскажешь… Что-что?
– Набрехали, говорю, на разноглазого. А он нервный был, дёрганый. Слетел с катушек.
– Что набрехали? – спросил Муха.
– Где он сейчас? – спросил я.
– Где-где, чалится с радостными. Клиент у него прямо под рукой помер. Ну а что, не бывает разве? Вот у нас на производстве мужик в трудовом процессе кинулся, не отходя от станка. Сердце. Так никто после этого на станок-то косо не смотрел.
Ну, не хотели сперва работать… Потом-то мастер объяснил.
– Да, – без убеждения сказал Муха, – народные предрассудки. Так и что?
– А то, что ни здрасьте ни насрать. Разговоры сразу пошли: деньги-то он взял, а дела не сделал. Выходит, по-ихнему, кто-то больше заплатил.
– Да ладно, – сказал я.
– Это вот ты говоришь «да ладно», а народ сказал «ага». – Ефим пригладил седые кудельки. – Злой наш народ, завистливый. Возьми хоть у нас на производстве: один человек разбогател немножко… ну там машину стиральную купил, ковёр новый… Чего только на него не клепали из-за этих денег. Будто и детали налево сбывал, и саму продукцию… Чуть ли не растратчиком ославили! Сильно там растратишь, на производстве-то!
Поскольку со всей очевидностью было ясно, что под «одним человеком» Ефим разумеет себя, мы благоразумно и сочувственно промолчали.
– Ну а дальше-то что?
– А что они могут против правды, брехуны несчастные? Вышел тот человек на пенсию, уважают его все, приглашают…
– С разноглазым что дальше?
– Так всё, не было дальше. Психанул разноглазый, заказы брать перестал, прожился. Бомжует.
– Еде его искать?
– А зачем он тебе?
Всё это время Фиговидец, в речи которого я перестал вслушиваться, что-то мерно дудел из приёмника. В повисшей паузе его голос окреп, набрал силу.
– …Я не готов выбалтывать чужие тайны вот так, прилюдно. Потом на ушко расскажу.
– Это он что же хочет сказать? – спросил Муха.
На следующий день я поймал на улице мальчишку посмышлёнее и, выкручивая ему уши, предложил сотрудничать. Мы обошли дозором подвалы, заброшенные сараи, котельные – все места, где мог приютиться зимой бездомный и гонимый человек. Я начинал уставать от чередования сугробов и тёплой смрадной грязи, когда нам повезло. «Вон он», – сказал пацан и, ловко увернувшись от последней затрещины, дал дёру. Я пролез через дыру в старом заборе и увидел между складами тупик, где у убогого костерка сидело на перевёрнутом ящике существо в засаленном ватнике. Когда я подошёл и ухватил его за шиворот, разноглазый скроил сперва несчастную рожу, потом – хитрую, потом начал вырываться. Я его ударил. Он меня едва не укусил.