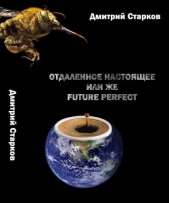Волки и медведи

Волки и медведи читать книгу онлайн
В отдаленном будущем Петербург ничуть не более безопасен, чем средневековое бездорожье: милицейские банды конкурируют с картелями наркоторговцев, вооруженными контрабандистами и отрядами спецслужб. Железный Канцлер Охты одержим идеей построить на развалинах цивилизации Империю. Главный герой, носитель сверхъестественных способностей, выполняя секретное задание Канцлера, отправляется в отдаленные – и самые опасные – районы города.
Роман еще в рукописи вошел в Короткий список премии «Национальный бестселлер» – как и роман «Щастье», в продолжение которого он написан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– И Платонов, по-вашему, виноват?
– Какой Платонов?
– Тот, который завтра вернётся в Город.
– Ах, так уже завтра? – Он откинулся на подушки и сделал вид, что перестаёт дышать. – Я болен, я не смогу присутствовать на заседании. Платонов – просто выродок, для таких не существует ни чести, ни правил, ни чувства вины… наследственной или ещё какой. Любой другой на его месте покончил бы с собою ещё двадцать лет назад.
– С чего бы?
– Но как же? Такая огласка, позор…
– Если можно жить с наследственной виной, то почему нельзя – с наследственным позором?
Внутри он вознегодовал, но снаружи струсил ссориться со мной именно сейчас. Признать, что позор – это всего лишь позор, он тоже не мог. Он знал, что от позора умирают. Конечно, люди, а не отребье, животные с того берега – тем всё как с гуся вода. Если бы я подал знак – как делали это нувориши, – что в моём случае животное осознаёт, раскаивается и готово к эволюционному скачку, X. бы разговорился. Если бы я откровенно занял позицию нераскаянного животного и стал осыпать насмешками городскую тонкокожесть, X. сменил бы тему. Я спрашивал и смотрел спокойно, и двусмысленность этого его убивала. Как она убивает всех, у кого хватает мозгов её заметить.
– На Большеохтинском, полагаю, устроят встречу.
– Какую встречу? Кому?
– Торжественную. Канцлеру. Платонову.
– Ничего подобного. Торжественную, вот ещё! И поедет он через Литейный.
– Литейный? Почему?
– Это требование береговой охраны.
– Да, эти встретят.
Это опять прозвучало двусмысленно. Не став ломать голову, X. перевёл речь на своё здоровье.
– Не могу вас порадовать, – сказал я мрачно. – Ближайшие двадцать четыре часа вам лучше бы оставаться под наблюдением.
«Неотразимой, – говорит Фиговидец, – ложь делает не правдоподобие, а тайные страхи того, кому лгут. Любой поверит в то, что уже видел в своих кошмарах».
– Неужели настолько серьёзно?
– Что-то идёт не так. Возможен приступ.
– Что же делать? – Он уже чувствовал жёсткие пальцы приступа на своей шее. – Что делать?
– Ничего не поделаешь. Вы ведь знаете, я под арестом.
– Глупости! – завопил он. – Какой может быть арест, когда я умираю?! Чему арест может помешать? Вон в кресло сядете и будете сидеть… арестованный.
– Боюсь, это не в ваших силах.
– Сейчас посмотрим, что в моих силах, а что – нет.
Чуть менее просто, чем ему казалось, и элегантнее, чем предполагал я, X. добился своего. Он нажал на рычаги. Задействовал связи. Пустил в ход родственников. Пока я на кухне пил чай в обществе экономки, курьеры бегали туда-сюда с записочками, а судьба вершилась. Наконец прибежал Порфирьев, от ярости даже как-то похудевший. Меня позвали к хозяину.
– Ну вот! – воскликнул X. – Вот он! Никуда не делся! Куда ему отсюда деться? Всего-то на одну ночь!
Порфирьев не заговорил, а зашипел.
– У меня нет людей, чтобы поставить вокруг вашего дома оцепление.
– Ну какая разница, в каком доме находиться под домашним арестом?
– Между квартирой и особняком очень большая разница. В том числе – в смысле возможностей бегства.
– Глупости! Зачем ему бежать? Он не побежит. Он… э… даст честное слово, что не побежит.
Пристав следственных дел (или следует называть его тайным начальником тайной полиции? я не знаю) посмотрел на меня, и во взгляде, в этих мерцающих глазах, отобразилось, как же на него давили. Он сопротивлялся, как мог, сделал, что мог, и не смог ничего: глупость, придури и высокое положение в очередной раз взяли верх над умом и характером. И тошно же ему теперь было.
– Слово чести, не побегу, – сказал я.
И под утро вылез в окно.
В Городе, если тебя начнут искать, невозможно спрятаться, поэтому я тянул до последнего и вышел на набережную, когда мосты уже свели. Я шёл и думал о Канцлере. Интересно, как он спал эту ночь и спал ли. Я смотрел на воду и представлял, как Николай Павлович смотрит на часы, бреется, выбирает (а может, выбрал давным-давно, неделю или годы назад) костюм и галстук, пьёт кофе, садится в свой катерок, высаживается на пристани у Променада – а потом идёт (я был уверен, что он пойдёт, а не поедет) через мост в сопровождении верной свиты, которая тоже, по своим вкусам и способностям, принарядилась. Из-за того, что я не увидел этого въяве, со мной навсегда осталась воображаемая картина, много ярче и отчётливее настоящей: гвардейцы в своих лучших мундирах, Молодой в майке под пиджаком и с голдой, улыбающийся Канцлер. Они шли не в ногу, не строем, в них было столько свободы.
Я рысил по набережной в сторону Литейного моста, прикидывая, как буду прорываться через блокпост, и вдруг – можно сказать, против своей воли – затормозил и резко обернулся. И да, он стоял у меня за спиной.
– Почему ты всегда настолько не вовремя?
– Сахарок приходит, – сказала тварь.
Мы стояли, время шло. Мне хотелось вцепиться в эти неумолимо истекающие минуты.
– Дай руку.
Он попятился, потом побежал. После самой тяжёлой в моей жизни минуты колебания я бросился следом.
В этот пустынный час не нашлось зрителей у этой незрелищной суетни вокруг Летнего сада. Допустим, был человек, как раз сейчас подошедший к окну, чтобы немного прояснить историческую обстановку, но и он, поудивлявшись, отметил бы только, что тот, кто догоняет, не предназначал себя для подобных нагрузок, а тот, кто убегает, не слишком старается убежать.
Не слишком старался или всё же не мог – это я оставляю на усмотрение рапсодов. Догнав, я повалил его в траву и схватил за руку, как делал это с клиентами.
За ремень у меня была засунута сложенная вдоль Лёшина тетрадка. Не отпуская Сахарка, я достал её, одной рукой раскрыл и начал читать, заботясь лишь о том, чтобы выходило громко и отчётливо. Он не дёргался, но я чувствовал сопротивление. Как гвозди, как ножи, как последнее оружие, вбивал я в привидение Лёшины строфы. За всех, кто не желал расплачиваться за свою мерзость, кто считал себя кем угодно, кроме как той дрянью, которой был, кто хотел жить и полагал это своим правом, хотел убивать – и тоже полагал это своим правом, кто отродясь не думал и кто думал, но в результате с чистой душой признавал себя невиновным, кто понимал – чем-то, видимо, не мозгами, – что человеческий мир не устоит, если в него придёт совесть. Красивейшие слова я выкрикивал как проклятия. Я уселся на нём поплотнее, упёрся коленом в горло. Господи Боже, голубчики мои! я просто хотел быть уверен.
Потом я встал. Я был один. Меня шатало, знобило и так далее, зато вопрос с Сахарком был закрыт.
Я потащился обратно на мост и уже на мосту – виден был подошедший катер, фигуры людей на пристани – услышал выстрелы: несколько подряд, самый последний – после паузы и не из винтовки. Стреляли с набережной у меня за спиной. Я перегнулся через перила, присмотрелся, развернулся и пошёл назад.
На спуске к воде на ступенях лежал Щелчок, рядом со Щелчком лежала винтовка. Снайпер был убит выстрелом в затылок. Убийца аккуратно и не прячась убирал пистолет. Это был тот офицер береговой охраны, которого я видел у себя дома и после, мельком, в обществе Ильи Николаевича.
– Боюсь, у вас будет работа, Разноглазый, – сказал он извиняющимся тоном. – Какие у вас расценки?
А на том берегу, на пристани и Променаде, царила суматоха. Я не мог отсюда видеть, но мне и не нужно было видеть. Я прекрасно знал, кто лежит сейчас в крови и прахе своих надежд, простреленный лучшим снайпером ойкумены.