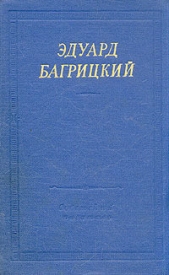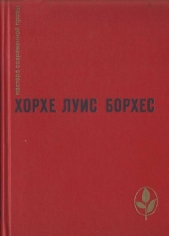Избранное
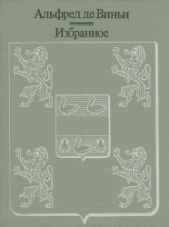
Избранное читать книгу онлайн
В сборник известного французского писателя XIX века Альфреда де Виньи вошли три пьесы: «Супруга маршала д’Анкра», «Чаттертон» и «Отделалась испугом», повесть-триптих «Стелло» и ряд стихотворений. Все переводы, кроме двух стихотворений «Рог» и «Смерть волка», публикуются впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я долго смеялся своим столь знакомым вам веселым смехом, листая эти, так сказать, республиканские установления, которые вы можете в любое время прочесть, эти законы «золотого века».
Прочтите это более спокойно, чем читал я в кабинете Робеспьера, и, если вы при вашей всегдашней сострадательности найдете, что этот молодой человек заслуживает жалости, я на этот раз, ей-богу, окажусь на вашей стороне, потому что помешательство — величайшее из несчастий.
Увы! Бывает помешательство мрачное и серьезное, которое не исторгает у человека безумных речей, не вынуждает его говорить необычным тоном и оставляет рассудок ясным, трезвым, точным во всем, кроме одного мрачного и зловещего пункта. Это холодное, положительное, здравомыслящее помешательство. Оно до неотличимости подражает нормальному рассудку, оно вселяет страх и почтение к себе, его трудно распознать, на нем непроницаемая маска, но это все-таки помешательство.
Что же нужно, чтобы оно поразило человека? Да пустяк, случайная непредвиденная перемена в положении скороспелого мечтателя.
Выдерните наугад из какого-нибудь коллежа рослого юнца лет восемнадцати-девятнадцати с головой, полной спартанцев и римлян в растворе из древних цитат; юнца, закостеневшего от формул римского и современного права; юнца, знающего о свете и его нравах ровно столько, сколько ему известно о своих сотоварищах и их нравах; раздразненного экипажами, в которые его не сажают; презирающего женщин, потому что он знает лишь самых последних среди них; равняющего слабости нежной и утонченной любви с грязным уличным распутством; судящего о корпорации по одному ее члену, о половине рода человеческого по одной особи и стремящегося достичь некоего всеобщего синтеза, который на всю жизнь наделит его глубочайшей мудростью,— возьмите его в минуту возбуждения, подарите ему миниатюрную гильотину и скажите:
— Вот, дружок, инструмент, с помощью которого ты можешь принудить целую нацию повиноваться тебе. Потяни тут, нажми там — вот и все, что нужно. Это очень просто.
Он малость поколеблется, прикинет на вес в одной руке школьную тетрадь, в другой — игрушку и, убедившись, что его в самом деле боятся, примется тянуть тут и нажимать там, пока его не раздавят вместе с машинкой.
И он почти наверняка окажется не злым человеком. Вероятно, даже добродетельным. Но он столько раз прочтет в прекрасных книгах: «Справедливая суровость», «спасительная жестокость», «святые убийцы самых дорогих ваших близких», «да погибнет мир — да здравствует принцип!» и в особенности «искупительное назначение кровопролития», что, усвоив эти чудовищные, порожденные страхом мысли, уверует в себя и, твердя: «Justum et teпасет propositi virum»39, воспитает в себе бесчувственность к чужой боли, примет ее за величие и смелость и... будет казнить.
А виной всему — поворот колеса Фортуны, который вознесет его и слишком рано даст ему в руки наиопаснейшее оружие — власть.
32.
О заменительности искупительных страданий
Здесь Черный доктор остановился, задумался и, с минуту оцепенело помолчав, продолжал:
— Одно из произнесенных мною слов вынудило меня прерваться и с ужасом вдуматься в две противоречивые мысли, которые столкнулись и слились в одно по ходу моих рассуждений.
В те же времена, о которых я рассказываю, во времена добродетельного Сен-Жюста, потому что, как уверяют, за ним не числилось если уж не преступлений, то, во всяком случае, пороков, жил и писал другой добродетельный человек, непримиримый противник революции. Этот другой мрачный дух, дух-фальсификатор, хотя лживым его не назовешь — он совестился искажать правду; упрямый, безжалостный, отважный и хитроумный дух, до зубов и кончиков ногтей, как сфинкс, вооруженный метафизическими и загадочными софизмами; закованный в броню догм; увенчанный плюмажем из туманных и пепелящих, словно молния, предсказаний,— этот другой дух, громыхая, как грозная вещая буря, кружил около границ Франции. Звали его Жозеф де Местр.
Во множестве книг — о будущем Франции, которое он угадывает чуть ли не в каждой фразе, о светской власти провидения, об исходном принципе политических конституций, о папе, об отсрочке божественного воздаяния, об инквизиции — он, демонстрируя, исследуя, раскрывая перед нами зловещие основы, которыми он — о, вечная проблема! — оправдывает власть человека над человеком, говорит, в сущности, следующее:
«Плоть греховна, проклята и враждебна богу. Кровь есть ее живая эманация. Утолить небо возможно только кровью. Невинный может расплачиваться за виновного. Древние верили, что боги слетаются туда, где алтари обагрены кровью; первые христианские богословы уверовали, что ангелы слетаются туда, где течет кровь невинной жертвы. Пролитие крови искупительно. Мы рождаемся с этим сознанием. Крест — свидетельство того, что спасение достигается кровью.
Позднее Ориген справедливо отметил, что есть два искупления: искупление Христово, спасшее мир, и малые искупления, спасающие ценой крови отдельные народы. Это кровавое принесение в жертву нескольких ради спасения всех будет длиться до скончания веков. И народы всегда смогут искупать свои вины благодаря заменителъности искупительных страданий».
Таким вот образом человек, наделенный одним из самых смелых и гипнотических философских талантов, которые когда-либо околдовывали Европу, дошел до того, что приковал к подножию распятия первое звено самой страшной и нескончаемой цепи честолюбивых и безбожных софизмов, которые, по-видимому, исповедовал со всей искренностью и в которых в конце концов от всего сердца усмотрел лучи божественной истины. Не сомневаюсь, что он стоял на коленях и бил себя в грудь, когда восклицал:
«Земля, постоянно напитанная кровью, есть не что иное, как один огромный алтарь, где все живое должно без конца приноситься в жертву во имя искоренения зла. Палач — краеугольный камень общества: его назначение свято. Инквизиция — благое, кроткое и охранительное учреждение.
Булла «In coena Domini»40 богодухновенна: она отлучает еретиков и призывает их на грядущие соборы. Но, великий боже, к чему соборы, когда есть позорный столб?
Чувство ужаса перед чьим-то гневным могуществом существует изначально.
Война — божественна: она должна вечно править миром, чтобы очищать его. Дикие племена обречены и преданы анафеме. Мне, о господи, неведомо их преступление, но коль скоро они несчастны и безумны, значит, они преступны и справедливо караются за вину какого-то давнего своего вождя. Европейцы времен Колумба были правы, не причисляя их к людскому роду и не считая подобными себе.
Земля — алтарь, который должен быть всегда напитан кровью».
Благочестивый безбожник, что он наделал!
До этого духа-фальсификатора идея искупления греховного рода останавливалась на Голгофе. Там Бог, принесенный в жертву Богом, сам возгласил: «Совершилось».
Не довольно ли было божественной крови, чтобы спасти человеческую плоть?
Нет. Так уж суждено, что человеческая гордыня всегда будет усугубляться стремлением измыслить незыблемую основу для неограниченной светской власти, а софисты — порхать вокруг этой проблемы и обжигать об нее крылышки. Да простится им всем, кроме тех, кто дерзает покушаться на жизнь, этот святой, трижды священный огонь, гасить который вправе один Создатель! Даже за правосудием не признаю я права на столь грозную кару!
Нет. Безжалостному софисту потребовалось, подобно терпеливому алхимику, долго дуть на пыль первых священных книг, прах первых вероучителей, золу индийских костров и головни людоедских пиршеств, чтобы извлечь оттуда поджигательскую искру своей роковой доктрины. Ему потребовалось разыскать и во всеуслышание процитировать слова Оригена, этого добровольного Абеляра, явившего нам пример первого жертвоприношения и первого софизма, идею коих он, как ему казалось, почерпнул в Евангелии, темного и парадоксального отца церкви Оригена, чьи наполовину платонические «Начала» на сто девяностом году от Рождества Христова были превознесены шестью святыми, в том числе святым Афанасием и святым Иоанном Златоустом, и осуждены тремя святыми, одним императором и одним папой, в том числе святым Иеронимом и Юстинианом. Потребовалось, чтобы мозг одного из последних католиков порылся в черепе одного из первых христиан и вытащил оттуда на свет губительную теорию замени-тельности и спасения через кровь. И все это для того, чтобы подновить обветшалое здание Римской церкви и распадающуюся средневековую структуру общества! И это во времена, когда бесполезность кровопролития для новых государственных институтов ежедневно и наглядно доказывалось в таком месте, как Париж!