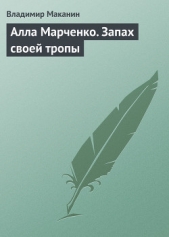Татуировка с тризубом (ЛП)
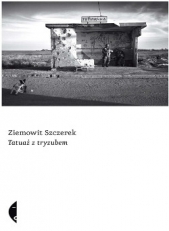
Татуировка с тризубом (ЛП) читать книгу онлайн
трана, находящаяся в состоянии забуксовавшей войны, не в состоянии провести реформы, но одновременно потихоньку формирует свою новую идентичность. Украина после Майдана. Именно это время описывает польский журналист и писатель Земовит Щерек в своей новой книге «Татуировка с трезубцем».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но ведь, тащась в сторону этого ёбаного Запада, о котором мне уже не хочется ни думать, ни писать, а что мне остается, блин делать, так вот, тащась в его направлении, разместив там свою точку отсчета, мы обрекли себя на вечное сравнение, на вечный комплекс, на вечные поиски "Парижей востока" и "Римов севера". Ну да, сейчас-то уже можно чуточку попустить. Сконцентрироваться на поисках своей сути; но тогда, после упадка одного мира и перед рождением другого, в том постапокалипсисе, за что-то нужно было хвататься. И меня совершенно не удивляло, что Андрухович выдумывает для себя ту более изысканную украинскость, чем чуществовала на самом деле, даже если изысканность эту он представлял довольно-таки топорно. Так что ж поделать, именно такими были тогда воображения.
И меня вовсе не удивляло, что он сидит на этих своих стипендиях, в этих своих Берлинах и Штатах, что пишет об Италии, что занимается Германиями, что в его стихотворениях полно заклинаний, призывающих мир Запада, как "escudo", "calle – aqua minerale" или "Dragon River"; что его Стах Перфецкий в Перверсии, сидя на венецианском островке, оказывается наиболее утонченным знатоком классики европейской музыки, и что в эту классику он вкомпоновывает украинские мелодии; что в конце книг Андруховича всегда написано, где они рождались, и там имеются имена местностей Германии, Швейцарии или чего там еще. Что в Тайне, расширенном интервью, взятом у самого себя, своим альтер эго он сделал немца. И назвал его Эгоном Альтом.
Все это
меня
совершенно
не
удивляло.
Совершенно.
Впрочем, не один только Андрухович искал для Украины более утонченной формы. В заведении, где я пил кофе, кто-то нарисовал на стене Ивано-Франковск еще тех времен, когда он назывался Станиславов. Или же, по-немецки, Станислау. Или же, по-украински, Станиславив. Как кому нравится. Широкий проспект, дома. Изображение было перерисовано с какой-то почтовой открытки и выглядело довольно отчаянным. Как если бы кто-то, не умея того, начал вызывать духов. Как если бы практиковал культ прошлого, рисуя на стене его изображения и рассчитывая на его повторное пришествие. На парузию [90] прошлого. Из динамиков звучало дешевое диско, не помню даже, то ли русскоязычное, то ли украинское. Кофе подали действительно хороший, только вся эта стилизация "под Вену" тоже была слишком уж отчаянной. С этими чашечками, с этими малюсенькими пироженками, с этим кланяющимся официантом и выгнутыми в Ą и Ę [91] спинками стульев. Все это было культом карго [92] и призывом духов. А на улице булыжники мостовой призывали человека к реальности, рекламы призывали, витрины тоже призывали – все призывало. Я вышел из кафе. По булыжной мостовой шла дамочка с собачкой, которая не лаяла, а хрюкала словно поросенок.
Спрошу обо всем этом у Андруховича, размышлял я в отчаянии.
Пусть мне скажет.
Пусть скажет, как он со всем этим справляется.
Так вот, на Андруховиче были красные штаны, на плече – рюкзак, и был он очень мил. От него в подарок я получил книги, так что мне было очень даже приятно. Я не кадил перед ним ладан, что, мол, "о яаа, вы мой любимый писатель, о яааа, у меня имеются все ваши книжки", поскольку тогда он чувствовал бы себя глупо, а мне не хотелось ставить его в подобную ситуацию. Мы походили по Франковску, немного пообнюхивались. Вот как-то не слишком, честно говоря, он, по-моему, этому Франковску соответствовал, это я Андруховича имею в виду. Положа руку на сердце – не сильно. Как-то так – нет. Я глядел на него и думал про Эгона Альта, про его выдуманное жилище в берлинском Кройцберге или Пренцлауэр Берге. Не помню, где тот его Эгон Альт проживал. Думал я о Карле-Йозефе Цумбруннене из Двенадцати обручей. О немецком муже Ады Цитрины из Перверсии, который вез украинских героев Андруховича через Баварию на своем лоснящемся автомобиле.
Мы немного поболтали о том, о сем, потом пошли в небольшую пивную.
- Пан Юрий, - задал я вопрос, - и как вы справляетесь? Со всем этим.
- С чем? – спросил он, а я ему сказал: об этой бесформенности, об этом кипящем отсутствии порядка, который, словно капельница, напитывает в вены вечное беспокойство и чувство угрозы, исходящее откуда-то, ну да, нечего тут притворяться: из антимира, антизапада. То есть – поскольку именно так все раскладывается в восточноевропейских страхах – с востока. О той неумелости и невозможности, которая все время напоминает нам, что мы так сильно хотели, а оно вот как-то, блин, не выходит, из-за чего бытие так сильно нас грузит. О том, как встаешь утром, вздыхаешь и говоришь: "бли-и-и-ин", потому что за тяжелыми шторами нас ждет не солнечное сияние, а еще более тяжелый день.
- Но погодите, это как, сейчас? – Он был по-настоящему изумлен. – Ну, когда-то, это понятно. Но сейчас? Сейчас-то ведь уже лучше. Сейчас это… э…
- Лучше… - отшатнулся я. – Ну, немного оно да, но все так же… ведь Олелько, ведь Попель, ведь Эгон Альт… ведь вся эта невозможность укорениться в… Эта жизнь в вечном несогласии с…
- А знаете что, - развалился тот на стуле. – Когда я возвращаюсь на Украину, допустим, из Германии, Австрии, да откуда угодно, то обычно приезжаю на львовский вокзал. И вот там имеется одно такое заведение, если выходить с перронов, то справа – туалеты, прямо – зал для VIP-пассажиров, а вот слева, за банкоматами, как раз то вот заведение. И я всегда туда захожу. Заведение ужасное. Сразу же в нос бьет запах всей этой нездоровой еды; но я захожу, присаживаюсь и заказываю себе коньяк и кофе. Именно там я пью свой первый украинский кофе и запиваю коньяком. И смотрю на все это. Привыкаю, - вот что он мне сказал.
А что еще должен был он сказать.
Во Львове, потому что, когда ездишь по западной Украине, то всегда, хочешь или не хочешь, возвращаешься во Львов, я пошел в то самое заведение, о котором рассказывал Андрухович. Справа – туалеты, слева – банкоматы, а вот за банкоматами – действительно: смрад паршивой жратвы и перегорелого, старого масла. Я пошел, заказал кофе и коньяк. Вот где он, размышлял я, садится, если все столики завалены людьми, лопающими подогретый борщ и котлеты.
- Можно? – спросил я у какой-то могучего, налитого загривка, который запихивался шашлыком. Тот поглядел на меня разочарованно, неприязненно, но эта неприязнь не была такой уж невыносимой, и что-то буркнул. В одинаковой мере это могло быть и "иди нахуй", и "можно", только выбор у меня был не особенно большой, пришлось предположить,Ю что это – "можно", ведь глупо было бы просто уйти..
Короче, уселся я за столиком и глядел. Загривок съел свой шашлык и ушел, а я глядел. На уставшую барменшу за стойкой, на какую-то молодую парочку с громадными сумками, делящуюся борщом и пивом, на каких-то поляков в горных ботинках, которые вошли, сморщили носы и ушли; на старичка, который вошел, поглядел на цены, затем долго еще к ним приглядывался, после чего тоже вышел; на какого-то паренька в тренировочном костюме, который заказал борщ, получил, попробовал, очень вежливо заметил, что тот холодный, так что борщ у него забрали, подогрели посильнее, отдали, и паренек очень культурно за это поблагодарил и съел. А потом вошли милиционеры. Странно как-то вошли, не вполне понятно – зачем. Вошли, и вроде бы смотрел, чего тут имеется поесть, но вообще-то как-то странно глядели на людей. Что так они вроде как проголодались, чего-то бы и поели, только на самом деле они кого-то разыскивают. Выглядели они при этом словно ни на что не способные шпионы из ситкомов, так что люди, поедающие свои шницели, картошку, шашлыки и борщи начали пофыркивать.