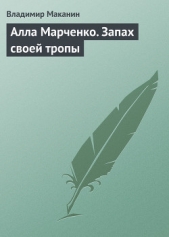Татуировка с тризубом (ЛП)
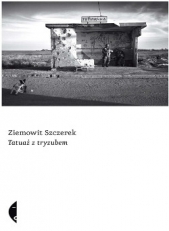
Татуировка с тризубом (ЛП) читать книгу онлайн
трана, находящаяся в состоянии забуксовавшей войны, не в состоянии провести реформы, но одновременно потихоньку формирует свою новую идентичность. Украина после Майдана. Именно это время описывает польский журналист и писатель Земовит Щерек в своей новой книге «Татуировка с трезубцем».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они все убегали и убегали, "corso" не имело конца, а когда уже через Днестр переехал последний автомобиль, лесами, избегая главных дорог, еще тянулись солдаты. Целые подразделения, которые, поочередно, осознавали, что дело проиграно, что Польши, которая должна была в несколько недель победить Гитлера и пройтись парадом по Унтер ден Линден, уже нет, и в течение какого-то времени, к сожалению, вероятнее всего и не будет. Так что шли они в гражданской одежке лесами, потому что скрывались от украинцев, которые пылали ненавистью. Когда уже выхода не было, и с украинцами приходилось встретиться, жители Конгресувки [86] выдавали себя за русских, а те, что с территорий германского или австрийского разделов – за немцев. Языки-то они помнили, ведь что такое – эти два десятка лет независимости. Младшим, воспитанным уже при Польше, было похуже. Наверное, притворялись немыми или чего-то там бормотали: "der. die, das". Иногда украинские селяне этим обманывались и рассказывали им страшные истории про поляков. Отчасти, наверняка, правдивые, отчасти – выдуманные, перекрученные, чтобы произвести большее впечатление. Поляки стискивали зубы и согласно кивали. Во всяком случае, именно так писали в своих воспоминаниях те, которым удалось попасть в ту несчастную Румынию. Я вот думаю, пытались ли они хоть иногда понять украинскую перспективу. Или, возможно, всего этого было слишком много, чтобы, в конце концов, утрата державы, мундира, чести, жизни приводила к тому, что у них, попросту, уже не было сил на понимание. На простую мысль, что украинцы ненавидели их точно так же, как они сами, еще два десятка лет назад, ненавидели тех, языками кого сейчас пользовались, чтобы отречься от польскости. И точно так же радовались бы их поражению, как украинцы сейчас радовались катастрофе польского государства.
В общем, я ехал во Франковск, в давний Станиславов, к Андруховичу, через места, в которых кончалась давняя Польша, через все эти зеленые борозды оврагов и балок, и было здесь до больного красиво, и все во мне рвалось на куски от этих видов. Но перед Франковском пейзаж немного поплющило, он несколько сдулся и спустил козырь. Сделалось как-то пустовато, дешево и совершенно обычно.
"Офіцери, офіцери, офіцери – пело радио в маршрутке, - захищати вам Вкраїну рідну дано, як робили це за Орлика й Бандери, офіцери України, офіцери" [87].
Когда мы въезжали во Франковск, сделалось уж совершенно мрачно. Асфальт под колесами буквально скулил от боли. Маршрутки вертелись по раздолбанной площади словно убегающие и прихрамывающие звери. В магазинах, точках подзарядки мобилок, в обменниках – сидели мужики и печально выглядывали в мир. Или же куда-то звонили, медленно переставляя ноги. Некоторые еще, по давней моде, в остроносых мокасинах. Только вот всех этих стереотипных "атрибутов постсоветского человека" было все меньше. Все меньше свитерков с надписями "Boss" или "Boys", все меньше пластиковых сумок, носимых в качестве авосек, все меньше рубашек-разлетаек, заложенных в брюки, причесок "под горшок", как в фильме "Тупой и еще тупее". Ну и обуви с острыми носками. Практически уже нигде не было видно моего любимейшего гэджета Пост-Совка, барсеток, то есть сумочек для подручной мелочевки, бумажника, мобилки и так далее, похожих на маленькие чемоданы, но с ручкой в натуральную величину [88]. Что-то заканчивается, за ним шествует новое. Какие-то два жулика сидят в скверике перед вокзалом, один пожилой, другой моложе. Оба стащили обувь и осматривают друг другу ступни. У младшего ступни в гораздо худшем состоянии, они напухшие и коричневые, по сравнению со ступнями старшего, хотя и у того они не выглядят наилучшим образом: сухие, мозолистые, в синяках, но не опухшие.
- Э, а у тебя ноги клевые, - говорит младший старшему, тот довольно лыбится.
- Забочусь я о них, - отвечает он.
"Офіцери незалежної Вкраїни, спадкоємці Сагайдачного й Богдана, - донеслось вновь из какой-то кафешки. - докажіть, що Ви є дійсно їхня зміна, офіцери, офіцери, офіцери"/ Я ходил по Ивано-Франковску, и меня мучила депрессия.
Город абсолютно не походил на тот, который я помнил. В нем не было ничего побеленного и пустоватого, позволяющего чуточку отдохнуть. Нет, с Франковском все даже не было особенно паршиво. Форма жилых домов, форма города, его урбанистика – все было даже весьма четким и четко ассоциировалось с тем, с чем должно было ассоциироваться. С Центральной Европой, конец, точка. Но и Макондо все это тоже не было. Ибо все, чем вымазала этот город Украина, приводило на ум нашествие варваров. Во Франковске мне мешало то же самое, что мешает и в польских городах. И что с большей или меньшей убежденностью я убалтываю себя, будто бы люблю, что обязан как-то любить, ведь нужно же как-то чувствовать себя в собственной же стране, и в ней нельзя сойти с ума. Хотя бы по той причине, что нет никакого смысла. Все те элементы, которые складывались в украинский Ивано-Франковск, булыжники мостовой, рекламные вывески, витрины, способ покраски или оштукатуривания домов, все это было на месте, но подобрано было настолько неуклюже и случайно, как будто бы кто-то напялил малиновый пиджак на ковбойскую рубашку. Плюс треники "Адидас" и мокасины.
Я понятия не имел, что случилось с тем покрашенным в белое, выкупанным в белой краске Франковском. Покрашенным поверху, грубо и не совсем умно, но, тем не менее, успокаивающе. Я не знал, что с ним случилось. Похоже, он никогда и не существовал.
Я договорился с Андруховичем и крутился по городу. Нехорошие предчувствия только усиливались, и мне уже хотелось только уехать. Андрухович меня поймет, думалось мне.
Ведь для Андруховича всегда главное – это форма, всегда ему не хватало у себя того, чего и мне не хватало в Польше, вечно он тосковал по какой-то изысканности. Это же видно невооруженным глазом. Ведь именно для того в Московиаде ему нужен король Олелько Второй. Устриц ему приносили слуги в мундирах с отворотами, на которых золотой, тонкой нитью были вышиты трезубцы; именно для этого в Рекреациях ему был нужен благородный модник Попель, приехавший в Чертополь на громадном, старомодном лимузине, и который раздавал героям то пачки сигарет, то пакеты чипсов. И что поделать, если представление о шикарной жизни, которое у Андруховича было в начале девяностых годов, когда все те книги появлялись на свет, с нынешней точки зрения было, скажем, не слишком-то политкорректным, потому что слуги Олелька в обязательном порядке должны были быть "экзотикой", другими словами, босыми и темнокожими. Немного дешево, да и что это за класс раздавать чипсы и курево – но именно таким это представление тогда было. И что тут поделаешь. В нашей бедной части света, которая "переживала определенные неуспехи" с какой угодно формой, более тонкой, чем нож с вилкой. И в этом я по-настоящему Андруховича понимал. Меня тоже доводило до отчаяния, что на всей, абсолютно всей территории, которую занимало государство под названием "Польша", обязательной является абсолютная пауперизация [89], завершенная, разъедающая и эту страну, и все это общество насквозь. Что нет там ни единого места, в котором можно было бы чувствовать себя так, какая имеется в тебе потребность к чувству. Что нет такой Польши, с которой хотелось бы себя ассоциировать, ибо все, на чем имеется надпись "ПОЛЬША", обладает к тому же сертификатом гадкого качества. Ну, естественно, понятно. Не все. Ясное дело, искусство, понятно, что кино, литература. Но те же литераторы, те же самые художники и графики бродили по тем же самым постапокалиптическим, дерьмовым коридорам, какими были улицы польских городов и деревень; ели они тот же самый хлам из тех же подозрительных магазинов, ну а ради праздничка – в ресторанах, а после еды подтирались газеткой, ведь туалетная бумага была товаром для французских собачек с испорченного Запада, а не чем-то нужным для такого бодрого общества – как мы. Хардкорового, крепенького, словно репка, и хдорового. Простейшая функциональность и необходимость. Гвоздь в стенку, на гвоздь – фуфайка, в угол горсть соломы – спи. В горшке каша с постным маслом – ешь. В сортире шмат газеты с фотками гнилого Запада – мечтай. Сри и мечтай.