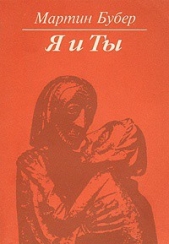От слов к телу

От слов к телу читать книгу онлайн
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.
Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского. Многие статьи посвящены тематике жеста и движения в искусстве, разрабатываемой в новейших работах юбиляра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я познакомился с ней, будучи жителем деревни, и ее печаль об уходящей, во многом идеализированной деревенской жизни, какой она представлялась поэту за временем, расстоянием и особыми обстоятельствами его биографии, не могла найти непосредственного отклика в сердцах моего поколения сельской молодежи. Нельзя сказать, чтобы мы не любили деревню, питали пренебрежение к земледельческому труду <…>. Но мы всей душой стремились к ученью, к городской жизни… [795]
Еще важней такая характеристика первых пореволюционных лет в деревне и умонастроения молодежи — его сверстников:
Пореволюционная деревня, поделившая помещичьи луга и земли, почти заново отстроившаяся за счет самовольных порубок в «лесах местного значения», была охвачена жизнедеятельным порывом, шедшим, правда, не в одном направлении. Тут и хуторизация, имевшая особо широкое развитие на Смоленщине, и опытное интенсивное хозяйствование читателей и подписчиков журнала «Сам себе агроном». Но были и успехи сельскохозяйственной кооперации, были товарищества по совместной обработке земли, прививавшие начальные навыки артельной жизни и служившие предвестием будущей коренной перестройки деревни на основе коллективизации, об особом характере и темпах которой тогда, правда, еще не было предположений. <…> Деревня была полна молодежи, привлекаемой комсомолом, школой, сетью изб-читален ко всякого рода культурным начинаниям. <…> Молодежь эта не только не чуралась города, но всячески тянулась к нему, стремясь по возможности подражать ему и в одежде, и в оборотах речи, и в приемах ухаживания [796].
Среди этой молодежи был и Твардовский.
Да, он увидел вскоре (хотя отнюдь не сразу) жесткость и жестокость преобразований. Но ведь крестьянский быт с детства противостоял сантиментам — постоянно резали живность, чтобы поддержать существование семьи, причем и ту, к которой ребенок привыкал, жил с ней в доме — как, например, с новорожденным теленком.
Он, несомненно, как и многие крестьяне и горожане, сначала просто не мог представить себе размаха происходящего. В отсутствие статистики и информации люди не знали а) масштаба — все плохое казалось единичным, б) деталей государственной жестокости. По крестьянской наивности Твардовский верил, видимо, в «перегибы» на местах. Верил, что Сталин этого не хочет и должной информации не имеет.
Живя уже в Смоленске, он с опозданием узнал, что всю его семью «раскулачили» и выслали на север — на Урал. Это тут же сказалось и на нем, уже полностью сосредоточенном на поэзии (еще далекой от настоящих результатов) и главное — глубоко верящем в свой дар. Письмо Твардовского Ан. Тарасенкову от 31 января 1931 года полно отчаяния:
Толя! Я добит до ручки. Был у секретаря обкома, он расследовал дело насчет обложения хозяйства моих родителей и — признано, что обложению подлежат. Подозревать в пристрастности я его не могу. Я должен откинуть свои отдельные недоумения и признать, что это так.
Мне предложили признать это и отказаться от родителей, и тогда мне не будет препон в жизни.
АПП же [Ассоциация пролетарских писателей], несмотря ни на какие признания (а я признал и отказался), хочет, страшно хочет меня исключать.
Скажи ты мне ради Бога, неужели это мой конец. Скажи. Поддержи. Почему я один должен верить, что я, несмотря ни на какие штуки, буду, должен быть пролетарским поэтом? [797]
Об этом же он напишет в 1954 году Хрущеву (настаивая, чтоб из его партийной анкеты убрали определение социального лица — «сын кулака»):
…добился приема у тогдашнего секретаря Смоленского обкома партии… Он мне сказал (я очень хорошо помню эти слова), что в жизни бывают такие моменты, когда нужно выбирать «между папой и мамой, с одной стороны, и революцией — с другой», что «лес рубят, щепки летят» и т. п. Я убедился в полной невозможности что-либо тут поправить и стал относиться к этому делу, как к непоправимому несчастью своей жизни, которое остается только терпеть, если хочешь жить, служить своему призванию, идти вперед, а не назад.
Здесь названы три важнейшие составляющие, формировавшие его идеологию и его поведение: «жить, служить своему призванию, идти вперед, а не назад». Молодость диктовала поведение — идти вперед, к молодым, к новому, к знаниям, к литературе. Верить в будущее, быть оптимистом — и, соответственно, насаждать оптимизм как некое новое мировоззрение [798].
Н. Коржавин (лично знавший Твардовского, сотрудничавшего с «Новым миром» в 60-е годы) полагает, что он, «претерпевая все мытарства, с которыми была связана судьба „кулацкого сынка“, конечно, сетовал на несправедливость, но хотел единственного: чтобы его восстановили во всех правах и позволили участвовать в общей жизни. Полагаю, что подобное же чувство владело и большинством раскулаченных, „подкулачников“ и их детей (не говоря уже о детях большинства жертв 1937 года). Сознания общей греховности происходящего не было не только у Твардовского или Смелякова — его не было почти ни у кого из их сверстников и читателей».
Это важно понимать: было реальное духовное, идеологическое единство с той читательской аудиторией, к которой Твардовский готовился обратиться.
«…Отсутствие этого сознания,
— продолжает Коржавин, — Действительно, когда мы осознаем, что находимся в руках злой силы, — при любой нашей общественной активности, пусть даже бессознательно, — все равно как-то ей сопротивляемся, отстаиваем себя. Все ее жертвы видятся нам в ореоле мученичества. Когда же мы признаем эту силу нормальной и законной (а тем более имеющей право на „неизбежные эксцессы“), мы можем только скорбеть о несчастном стечении обстоятельств, о собственной неловкости, благодаря которой нас неверно поняли и истолковали, наши страдания в глазах окружающих (да и наших тоже) выглядят жалко и глупо, словно это не нарушение справедливости, а только наше личное, никого не касающееся несчастье. Мы только тупо доказываем, что мы лично (или наши родители) не мироеды, а трудяги, не двурушники, а честные революционеры, но и сами знаем, что это не так важно, ибо „лес рубят — щепки летят“.
В этих условиях все старания человека, естественно, направляются на то, чтобы не попасть в такое жалкое положение…
…Это умонастроение, это низложение жертвы способствовало полному торжеству того царства страха, в которое успешно превращал нашу страну Сталин…» [799]
Страх, наслоившийся на столетия рабства, оставшийся в исторической, если не биологической памяти каждого русского крестьянина, нес в себе — и сознавал это — Твардовский.
В одном из стихотворений 1936 года — «Песня» — посвященном матери, это выражено в двух стиховых строках и едва ли не в одном эпитете:
«Плач несмелый» — нетривиальный эпитет прорывается в текст, вполне укладывающийся в рамки советской печати из другого, подлинного поэтического языка. Нам приходилось уже писать о по меньшей мере трех слоях значений этого эпитета, и третий — «еле слышный», но самый важный — слой отождествления эпитета с самим автором (при том, что он не разрывается с двумя первыми значениями, а, напротив, спаян с ними, ими подкреплен). Этот эпитет дает нам услышать голос самого этого ребенка — выросшего, но оставшегося несмелым крестьянским сыном [800].