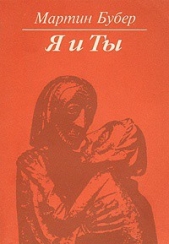От слов к телу

От слов к телу читать книгу онлайн
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.
Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского. Многие статьи посвящены тематике жеста и движения в искусстве, разрабатываемой в новейших работах юбиляра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Важная черта — творческий импульс включается лишь при условии уверенности в разумности происходящего. Сам поэт четко контролирует эту свою особенность:
Ему хочется, чтобы разъяснили происходящее, чтобы не было этого гнетущего молчания. Хочет, чтобы Стопин выступил и разъяснил. Ему невмоготу с этими темными пятнами. Еще он сказал так:
— Я хотел бы даже, чтобы меня арестовали, чтобы узнать все до конца, но племя свое жаль.
11 сентября 1937 года:
Позиция Тв<ардовского> такова: он не может отказаться от Македонова, не может признать его врагом народа. <…> Он должен быть убежден в разумности, в правильности всего, что совершается, только тогда может писать. Он сказал:
— У меня двадцать стихов начатых или замышленных. И я не могу ни за одно приняться.
И вместе с тем признать разумность ареста Македонова он не может.
— Нельзя так обманываться в людях, — говорит он. — Если Македонов японский шпион, тогда и жить не стоит. Не стоит, понимаешь!
<…> Мне кажется, что ясный ум Тв<ардовского> теперь застлан темной тяжелой завесой. Над ним тяготеет предчувствие ареста.
— <…> Я тебе признаюсь, после моего отъезда [из Смоленска в Москву] за мной приходили.
Вот и пиши в таком состоянии жизнерадостные, жизнеутверждающие стихи.
Заметим — сомнений в том, что его стихи должны быть именно такими, у молодого Твардовского нет.
20 сентября:
Как это он говорил: «Бывают минуты, когда во всем сомневаюсь, даже в своем таланте. А потом возьмусь за что-нибудь, вижу: нет, поддается, лепится, и снова можно жить».
25 сентября:
Двадцать третьего вечером был у Твардовского и ночевал у него. Он пришел из института усталый, какой-то разбитый, бессильный. Это уже не тот Твардовский, который по десять-двенадцать часов в день просиживал за учебниками, светился внутренней чистотой, проникновением в жизнь, душевной ясностью. Теперь не то. Смутно у него на душе, смутно в мыслях…
И он не может писать.
— Пьесу я не кончу, — сказал он.
— Почему?
— Не могу писать, когда Македонов сидит.
<…> Он говорит: «Никогда еще в самые тяжелые для меня дни не было у меня таких сомнений в справедливости нашего строя, как сейчас. Я порвал с отцом и матерью, зная, что социализм прав [790], принял с радостью все, что несет новый строй, принял во имя высшей человеческой справедливости, и сейчас все это подточено, все взбаламучено. Я знал, что, если ты работаешь, если ты предан, тебе ничего не грозит, ты твердо стоишь на земле при социализме, а сейчас это убеждение рухнуло. Можешь быть честным, преданным, и вдруг тебя все же захватит мясорубка».
В этой уверенности до поры до времени («если ты предан…») — отличие второго поколения литераторов советского времени (рождения 900-х годов) от первого (рождения 1890-х). Никто почти из старшего поколения — те, что встретили «минуты роковые» взрослыми людьми, — не чувствовал себя в полной безопасности: у каждого за плечами была личная биография, которая могла утянуть за собой. У второго поколения грехи были только отцовские — от них можно было освободиться, например, отказавшись от родителей: так в начале революции евреи-литераторы первого поколения, покидая свои дома в черте оседлости, объявляли порой и о разрыве с родителями — мелкими торговцами и т. п. Так поступил и Твардовский — и надеялся, что его теперь не «захватит мясорубка».
8 октября:
<…> Кажется, неприятности у него кончились. Он был у Ставского, тот поговорил с ним по-родительски (как партийный папаша). Тв<ардовский> остался доволен, был успокоен этим разговором.
— Иди, работай! — сказал ему Ставский.
И у Тв<ардовского> пробудилась тяга к работе. Хочет дать в первый номер (38 г.) «Красной нови» цикл стихов «совсем особенный, о котором даже не расскажешь» [791].
Изо всех записей Бека явствует, что в пробуждении у Твардовского «тяги к работе» участвует не сугубо шкурный интерес, а то, что он увидел — справедливость все-таки существует, мясорубка не захватывает без разбору…
Записанные в дневнике А. Бека высказывания Твардовского (год как ставшего признанным и известным) удостоверяют важнейшую особенность его собственного творчества и творчества многих из его поколения. Вернее — речь идет об особенностях связи биографии и творчества.
Эта особенность достаточно видна и из самих текстов. Но, удостоверенная такими прямыми свидетельствами, она дает теперь возможность найти для нее не метафорическое, а лишь точнее всего, на наш взгляд, определяющее эту связь именование: теодицея.
Как известно, теодицея — это Богооправдание. Это поиски такого объяснения зла в мире, которое не затрагивает существования Божественного промысла. Ясно, что с теодицеей связан и непременный оптимизм (вот почему, не разделяя примитивное приспособленчество многих своих современников, Твардовский в отчаянии, что не может писать жизнеутверждающих стихов).
Спустя ряд лет существования советской власти, в момент, когда в литературу вошло второе поколение литераторов, у некоторых из них с ретроспективной точки наблюдения очевидна неразрывно связанная с творчеством потребность в вере в разумность существующего строя и политики власти. Вере в то, что любая несправедливость не является органической частью нового порядка, с ним нерасторжимо связанной.
Эта потребность вытекала почти впрямую из антропологического фактора — биографии поколения. Ярче и драматичней всего она проявилась у Твардовского.
Попробуем проследить ее формирование.
В 1917 году будущему поэту — семь лет. Деревенское досоветское детство — с его вековым укладом — уже вошло в плоть и кровь, легло на дно будущего творческого воображения невынимаемым пластом.
Отроческие годы, когда из-под крыла матери крестьянский сын уже переходит под суровую руку отца, отнюдь не были идиллией — идиллическое осталось в раннем детстве. Тяжелая инерция крестьянского быта, тесной общей жизни в избе становилась поперек бродившей в жилах творческой силе, еще не проявившей себя в реальных результатах, но требовавшей свободы — как непременного условия появления результатов. Он рвался из семьи в город. Его целью было — писать и учиться.
… Много лег спустя, после освобождения Смоленщины от немцев, когда Твардовскому удалось «найти, вывезти и устроить всех родных» [792], он поселился временно в Смоленске «у стариков, заняв у них одну комнату» [793]. Дневниковые записи ноября 1943 года — жесткие и трезвые, в том числе и по отношению к собственным эмоциям:
Бремя «дома». Едва хватает сил, чтоб еще работать. В сущности — жалкий, чужой, трудный, ненужный и неотепленный мир. Лучше б от него быть далеко.
<…>
Живу <…> в самой гуще бед, несчастий и идиотизма «стариков» и всей семьи. Неизвестно, что было бы с ними, не найди я их в деревне, но перевезенные мною сюда, в хорошую квартиру, обеспеченные самым необходимым, они охают, ноют, живут запущенно до раздражения. …Счастье мое все-таки, что я в молодости жил отдельно.
Всех жаль, иных мучительно, все вот здесь, рядом, не отмахнешься, не забудешь…
… Сколько помню себя, мучим стыдом за своих либо опасением чего-то стыдного, и теперь то же самое [794].
Годы его отрочества пали на первую половину 20-х — когда социалистическая утопия была еще живой и увлекала юные сердца. Твардовский поверил, что деревенскую темноту, тяжкий, изнурительный крестьянский быт смогут преобразовать — осветить нездешним светом. Ему легко было поверить, что собственнический инстинкт, без которого нет крестьянского двора, — не лучшее, что есть на свете. Пойти за иными ценностями. Он вполне осознанно не принял поэзию Есенина: