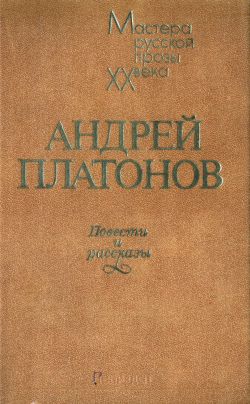Судьбы крутые повороты

Судьбы крутые повороты читать книгу онлайн
Книгами Ивана Лазутина «Сержант милиции», «Черные лебеди», «Суд идет» и другими зачитывалась вся страна, печатались они миллионными тиражами.
В новой автобиографической книге автор рассказывает о своей судьбе, которая с раннего детства шла с неожиданными, крутыми поворотами, начиная с раскулачивания любимого деда, потом арест отца по 58-й статье, война…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не бойся, бабка, цел твой ключ.
Удивила милиционеров буханка ржаного хлеба с довеском, которая зачем-то лежала на пропахшем нафталином добре.
— А это для кого хлеб, для моли? — спросил с ухмылкой лейтенант.
Бабушка Настасья молчала. С первой же минуты прихода работников милиции ее взяла оторопь. Хоть и стара она была и неграмотна, но знала от соседей, что люди с наганами, одетые в брюки-галифе и длинные синие шинели, забирают мужиков и уводят их в тюрьму. А потом об арестованных ни слуху, ни духу, словно кто-то бросил их лютой зимой в прорубь. На вопрос милиционера ответил отец.
— У меня на иждивении восемь ртов, а хлеб, сами знаете, получаем по карточкам. Двухсот грамм на иждивенца при нашем приварке хватает только на один присест за стол. Вот мать и делит его, как просвирки.
Сержант с каким-то особым интересом вытаскивал из сундука пропахшую нафталином одежду. Два старых кашемировых платья, юбки, жилет, уже изрядно вытертая меховая шуба, подвенечное платье с множеством оборок… И все это он раскидывал на руках, тряс и клал на стол.
То, что лежало на дне сундука, заставило лейтенанта встрепенуться. Из бархатной тряпицы, свернутой в узелок и затянутой резинкой, сержант извлек два Георгиевских креста. Оба милиционера впервые видели эти знаки солдатской доблести русской армии.
— А это что за штукенции? Значки? — лейтенант подбросил на ладони кресты, — тяжелые черти, не то что наши ГТО или «Ворошиловский стрелок». Грамм сто, пожалуй, потянут и, по всему видать, серебряные.
— Это не штукенции, — глухо ответил отец.
— А что же? — покосился на него лейтенант.
— Георгиевские медали.
— Царские награды? — почти выдохнул лейтенант.
— Да, царские… — сдержанно ответил отец.
— Чьи награды?
— Тестя моего.
— Жив?
— Умер, — ответил отец.
— За что награжден?
— Значит, было за что, — ответил отец. — В Порт-Артуре воевал.
Взгляд лейтенанта метнулся в сторону сержанта.
— Изъять!.. В акте запиши: два царских креста принадлежали покойному тестю, Вердину Сергею Николаевичу. Получил за Русско-японскую войну.
— У них вся порода такая, — глядя то на лейтенанта, то на моего отца, поддакнул Хряков. — У тестя царские награды, сам в тридцать первом году был раскулачен, сослали бы на Соловки, да ловко улизнул.
— Откуда ты знаешь, что улизнул? — спросил лейтенант.
— Да в те годы всех на Соловки ссылали, кого раскулачивали.
— Ниоткуда я не бегал… На Соловки меня не ссылали и раскулачили не меня, а моего отчима, я был у него приемышем с двух лет, — покашливая в согнутую ладонь, поверженно проговорил отец. — А вот ты… Все село знает, что ворюга из ворюг. Жалко, что я тогда, у стожка, не потратил на тебя патрон.
— Вот, видите, какой он, товарищ лейтенант, — вскипел Хряков, — это они, кулачье, ухлопали Павлика Морозова.
— Прекратите треп! — сердито бросил лейтенант и, увидев на полу продолговатую коробочку, выпавшую из рукава старинной поддевки, наклонился за ней. Но это была не просто коробочка, а кожаный чехол, в котором лежал морской кортик. Лейтенант поднес его к окну и прочитал вслух выгравированную надпись на плоской грани лезвия: «Сергею Николаевичу Вердину — за доблесть и отвагу».
Лейтенант обернулся к маме.
— Кем был твой отец в боях за Порт-Артур?
Не сразу ответила мама на вопрос лейтенанта. Закусив нижнюю губу, она мучительно припоминала, кем был ее отец в русско-японскую войну. Наконец, вспомнила разговор покойного отца с мужиками-соседями, когда ей было лет десять.
— Покойный папаша сказывал, что командовал какой-то конной разведкой, стало быть, при конях службу нес…
Лейтенант вложил кортик в чехол и положил его на стол рядом с Георгиевскими крестами.
Больше в сундуке, кроме двух давно выцветших и изъеденных молью настольных скатертей, женских полусапожек со сбитыми каблуками, кашемирового платка и поношенной пуховой шали, ничего не было.
Первое, что бросилось в глаза лейтенанту и низкорослому сержанту в горенке, это было висевшее на стене ружье.
— Марка? — спросил лейтенант и снял ружье с гвоздей, вбитых в бревна избы.
— А черт ее знает, что за марка. Мужик, что продавал, сказал: «японка». У нас, вроде бы, не делают двухзарядные.
— «Японка»?! — удивился лейтенант, вертя ружье в руках. — И где же ты ее приобрел?
— Да на базаре. У кундранского мужика. Да один ствол оказался никудышный, на двадцать шагов дробь рассыпает аж на полтора метра. По большей части, ребятишки с ней бегают на озеро. Мне-то и некогда, да и не любитель я.
— Интересно… — усмехнулся лейтенант, что-то прикидывая в уме. — Каким это образом японское ружье попало в такой захолустный поселок как Кундраны?
— Вот этого уж я не знаю. Может, кто с Японской войны привез.
— А случайно, не купил ли ты это ружье у кого-нибудь из проезжих пассажиров экспресса «Владивосток — Москва»? На том поезде ездят не только наши советские люди, но и япошки.
— Да вы что, Господь с вами… Шесть лет живу в Убинске, и ни разу ни с одним пассажиром с этого поезда словом не перекинулся.
В разговор, словно его ужалили, встрянул Хряков.
— Уж так и ни разу! Своими глазами видел, как однажды ты рвался в вагон-ресторан поезда. Хорошо, что проводница тебя с приступки пинком сшибла. Потом всю дорогу, аж до раймага, матом ее крыл.
— Так все-таки заглядывал в вагон-ресторан экспресса «Владивосток — Москва»? — с подковыркой спросил лейтенант, глядя то на отца, то на Хрякова.
Голос отца сел, и сам он как-то сразу сник.
— Каюсь, хотел купить жене коробку конфет, она мне вторую дочку родила, до этого у меня все шли сыновья. Проводница не пустила, спихнула со ступеньки.
— И с япошками не было контакта? Они, сам знаю, любят погулять по перрону в своих цветных кимоно.
— Шутите, товарищ лейтенант. Я и языка-то ихнего не знаю.
— Ну, ладно, — протянул лейтенант, — придет время — выясним. — Вернувшись в кухню, лейтенант положил ружье на стол.
— Припасы есть?
— Есть, — покорно ответил отец.
— Выкладывай на стол!.. Все, что есть — выкладывай!
Отец достал с полатей сосновый сундучок, обитый жестью, отомкнул навесной замок, откинул крышку.
— Все, что у меня есть.
— Забрать, — распорядился лейтенант.
Сержант, закрыв сундучок, положил на стол припасы, завернутые в кусок рогожи, рядом с ружьем.
Снова один за другим вернулись в горницу. На грубо оштукатуренном и во многих местах облупившемся от дождевых подтеков простенке, левее икон, висели вставленные в сосновые рамки два ровных ряда почетных грамот за ударный труд. Лейтенант сосчитал, шевеля губами:
— Восемь. Все твои? — повернулся он к отцу.
— Моих четыре. Остальные сыновей. Три — старшего сына. Одна — Ванюшки, третьего сына.
— А это что за Карл Маркс развалился в барском кресле? Ишь какую бородищу отрастил!
Лейтенант ткнул пальцем в застекленную фотографию, висевшую на стене.
— Папашка мой, — приглушенно ответила мама, — в двадцать третьем году снимался, в Тамбове.
— Его кресты-то царские?
— Его, — убито ответила мама.
— Купец или помещик при царизме?
— Да что вы, Господь с вами, двух лошадей и корову нажил лишь в двадцать втором году, а до этого кое-как концы с концами сводил. Два раза горел, всем миром помогали встать на ноги. Трое сыновей и четыре дочери.
— Рассказывай сказки, — насмешливо проговорил лейтенант. — При царе перед Георгиевским кавалером сам староста и околоточный по стойке «смирно» вставали. — Лейтенант желчно ухмыльнулся. — Бедняки да погорельцы сидели не на витых креслах, а на сосновых скамейках да на колченогих табуретках. А у батюшки твоего, смотри, какой музей. У Льва Толстого вряд ли было такое кресло.
Мама пыталась уверить лейтенанта, что фотографировался ее отец в Тамбове в павильоне, в котором фотограф пожилых и старых людей сажал на резное кресло. Некоторым на голову даже надевал шляпу, а молодых рядил в черкесские одежды, с кинжалом и газырями, а то, надев на парня казачью папаху, заставлял его просовывать голову в дыру с оборотной стороны большой картины, намалеванной масляной краской, на которой был нарисован тонконогий рысак.