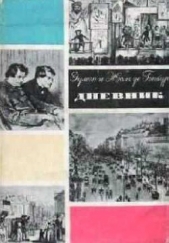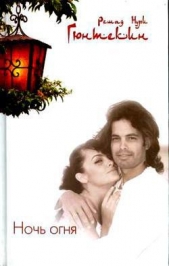Дневник. Том 2

Дневник. Том 2 читать книгу онлайн
Авторами "Дневников" являются братья Эдмон и Жюль Гонкур. Гонкур (Goncourt), братья Эдмон Луи Антуан (1822–1896) и Жюль Альфред Юо (1830–1870) — французские писатели, составившие один из самых замечательных творческих союзов в истории литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Их имя было присвоено Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев. Записки Гонкуров (Journal des Goncours, 1887–1896; рус. перевод 1964 под названием Дневник) — одна из самых знаменитых хроник литературной жизни, которую братья начали в 1851, а Эдмон продолжал вплоть до своей кончины (1896). "Дневник" братьев Гонкуров - явление примечательное. Уже давно он завоевал репутацию интереснейшего документального памятника эпохи и талантливого литературного произведения. Наполненный огромным историко-культурным материалом, "Дневник" Гонкуров вместе с тем не мемуары в обычном смысле. Это отнюдь не отстоявшиеся, обработанные воспоминания, лишь вложенные в условную дневниковую форму, а живые свидетельства современников об их эпохе, почти синхронная запись еще не успевших остыть, свежих впечатлений, жизненных наблюдений, встреч, разговоров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
мне с того, что здесь есть памятники, Опера, кафешантаны,
ведь я туда еще ни разу не заглядывал, это мне не по средст
вам». И он радуется тому, что в Париже больше не будет бога
чей; он убежден, что скопление в одном месте множества бо
гатых людей ведет к вздорожанию жизни. Этот рабочий в одно
и то же время глуп и полон здравого смысла.
«Веритэ» сообщает, что завтра или послезавтра, в «Офись-
ель» будет опубликован закон, по которому все мужчины от
9 Э. и Ж. де Гонкур, т. 2
129
девятнадцати до пятидесяти пяти лет, как женатые так и не
женатые, будут призваны *, чтобы выступить против вер-
сальцев. И я попадаю под действие этого закона! Через не
сколько дней мне придется скрываться, как во времена тер
рора! Пока еще, на крайний случай, есть возможность уехать,
но у меня нет на это никакого желания.
Сколь пристрастны люди, принадлежащие к какой-то пар
тии! Я слышал заявление Бюрти о том, что он предпочитает
прусскую оккупацию — версальской! Где же справедливость?
Ведь это говорит человек, который возмущался поведением
эмигрантов. А у последних, когда они призывали на помощь
иностранные державы, были смягчающие обстоятельства — кон
фискация их владений и убийство близких.
Похоронные дроги, подбирающие мертвых, проезжают но
бульвару, восемь черных полотнищ, свисающих с балдахина,
полощутся на ветру, драпируя мрачными складками злове
щую фигуру кучера. У могилы моего брата, на кладбище Мон
мартр, ружейная пальба и канонада кажутся совсем близкими,
словно грохочут в самом Париже. На холме, в той части клад
бища, где похоронены русские и поляки, на могильных плитах
лежат женщины; они прислушиваются к стрельбе и время от
времени привстают, чтобы что-нибудь разглядеть.
Канонада снова настигает меня — сегодня она ужасна — на
террасе Тюильри, у самой реки. Время от времени, потревожен
ный шумом, сюда поднимается какой-нибудь гревшийся на сол
нышке рантье в фуражке, но пьяный национальный гвардеец
потоком грубого красноречия тотчас же сгоняет его вниз, на
Птит-Прованс *.
Впрочем, уехать невозможно, ибо время от времени кажется,
будто наши друзья-враги уже так близко, что даже спраши
ваешь себя, не вступили ли они в город, и ждешь, что среди
паники, охватившей гвардейцев, в трескотне ружейных выстре
лов под Триумфальной аркой вот-вот покажется головная ко
лонна версальцев. Но весь этот ужасный шум стихает, а никто
не показывается, и ты бредешь домой, говоря себе: «Ну что ж,
значит, завтра!» А это завтра все не приходит...
Понедельник, 24 апреля.
<...> Сегодня вечером перечитывал «Исповедь сына ве
ка», — мне удалось отыскать ее первое издание. У меня есть уже
первое издание «Сладострастия», и хотелось бы заполучить
также «Мадемуазель де Мопен» и «Лелию». Эти книги пред-
130
ставляются мне особенно любопытными; в них содержится ана
лиз Неутолимости — болезни, которою в наше время страдает
разум.
Воскресенье, 30 апреля.
Отвергая соглашение *, Тьер и Дюфор вполне последова
тельны. Что сказать о журналистах, если они в одном столбце
предлагают вступить в соглашение с людьми, к которым в
другом столбце требуют применить ту или иную статью уголов
ного кодекса?
Сегодня, в редакции «Тан» я снова встретил Клемансо.
Я уже не вижу в нем ничего сатанинского. Это просто желу
дочный больной, который говорит умно, даже одухотворенно,
с несколько нервным юмором, в духе Пале-Рояля *. Рядом с
ним — Флоке, похожий на болтливого аптекаря. Это заурядный
и вульгарный торговец изречениями Пале-Рояля — многослов
ный пустозвон.
Сегодня воскресный Париж, лишенный своих пригородов и
кафешантанов на открытом воздухе, проводит вечер на Ели
сейских полях, — все стекаются сюда, привлеченные канона
дой, словно фейерверком.
Впрочем, гражданская война придает всему широкий раз
мах. Сегодня вечером пушки и митральезы не смолкают ни на
минуту. По небу, покрытому тучами, над еще не успевшими
одеться зеленью скелетами вязов на Елисейских полях, в сто
рону Терна плывет красное облако, окрашенное разгорающимся
пламенем пожаров, которые уничтожают дома. Женщины, сто
ящие темными группами, проклинают под впечатлением этой
зловещей картины пруссаков из Версаля! Ораторы со слезой
в голосе и с ошибками в речи разглагольствуют об эксплуата
ции рабочих. И пьяницы кричат «Долой воров!» прямо в лицо
встречным буржуа.
Понедельник, 1 мая.
Войска возвращаются из Исси и проходят по бульвару, пред
варяемые веселой музыкой и радостной сутолокой, которая
резко контрастирует с жалким и подавленным видом этих
людей. В их рядах шагает женщина с ружьем на плече. Сзади
едут два воза, доверху заваленные ружьями. В толпе говорят,
что это оружие раненых и убитых.
Воскресенье, 7 мая.
В это жестокое время я мысленно оглядываю свою печаль
ную жизнь и все ее скорбные дни.
9*
131
Я вспоминаю годы, проведенные в коллеже, более суровые
для меня, чем для других, из-за того чувства независимости,
что всегда заставляло меня драться с мальчиками, более силь
ными, чем я, или обрекало на своего рода карантин, на кото
рый желторотые тираны подбивали трусливых подростков.
Я думаю о своем призвании художника, о призвании уче
ника Архивно-палеографической школы, от которого мне потом
пришлось отказаться под нажимом матери. Я снова вижу себя
студентом, клерком адвоката без гроша в кармане, вынужден
ным довольствоваться низменной любовью, живущим особня
ком среди друзей и товарищей, заурядных, пошлых мещан, ко¬
торые решительно не понимали мучивших меня артистических
и литературных устремлений и утешали меня зрелой отеческой
мудростью.
И, наконец, я, никогда не знавший толком, сколько будет
дважды два, всегда так робевший перед цифрами, вдруг ока
зываюсь в казначействе и вынужден с утра до вечера склады
вать и вычитать — за эти два года мысль о самоубийстве не раз
искушала меня.
Наконец я, казалось, достиг независимости, зажил свободной
жизнью и занялся любимым делом. Наконец для меня началось
счастливое существование бок о бок с моим братом. И что же?
Не прошло и шести месяцев после моего возвращения из Аф
рики, как меня свалила дизентерия, два года продержавшая
меня между жизнью и смертью и оставившая в таком состоя
нии, что я не знал с тех пор ни одного вполне благополучного
дня. Мне выпала великая радость — возможность отдавать себя
работе, для которой я рожден. Но я живу среди таких нападок,
такой бешеной ненависти, какой — могу сказать с уверенно
стью — не вызывал к себе ни один писатель нашей эпохи. Мно
гие годы прошли в борьбе, и в итоге у моего брата начались
серьезные приступы печени, а у меня появилась опасная бо
лезнь глаз. Затем мой брат заболел, очень тяжко заболел, про
мучился целый год, пораженный ужаснейшей болезнью, хуже
которой ничего не может быть для ума и сердца человека, свя
занного тесными узами с умом и сердцем больного. Он умер.
И сразу же после его смерти я, подавленный и обессиленный
утратой, должен пережить войну, нашествие, бомбардировку,
гражданскую войну, которые отозвались на Отейле тяжелее,
чем на каком-либо другом месте в Париже.
Поистине я еще никогда не был счастлив! Сегодня я спра
шиваю себя, предел ли это? Я спрашиваю себя, долго ли еще я
132
смогу видеть, не суждено ли мне вскоре ослепнуть, лишиться