О нас – наискосок
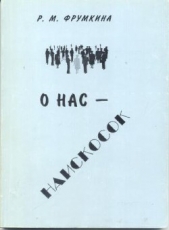
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тем не менее одна, без помощи Н., я вообще ничего не смогла бы сделать. Н. писал тогда кандидатскую диссертацию, где центральное место занимала проблема обработки экспериментов по обнаружению речевого сигнала. Мы оказались в некотором роде коллегами. Я пыталась набрать хоть какой-то опыт в работе с прибором. Поначалу мы встречались только у него в лаборатории, где засиживались допоздна. В дальнейшем наши разговоры вышли далеко за рамки профессиональных обсуждений. Н. стал изредка бывать у нас дома.
Летом 1966 года в Москве должен быть состояться Международный съезд психологов. Я с нетерпением ждала возможности хотя бы увидеть тех, чьи имена и споры мне были так хорошо знакомы по литературе. Н. предполагал участвовать в специальном симпозиуме по восприятию речи, который организовывала в Ленинграде Л. А. Чистович.
Я к тому времени с Чистович была знакома и могла только сожалеть о том, что ее лаборатория находилась в Колтушах. Поскольку именно в Колтушах весной 1967 года я нашла нужную мне экспериментальную установку, мне потом долгое время казалось — живи я в Колтушах, все было бы, как говорил один ленинградский мальчик, «совершенно лучше».
«Наш спор — о свободе»
В январе 1966 года мы с Юрой две недели прожили в Суханово — подмосковном доме отдыха Союза архитекторов. Как-то раз я зашла в библиотеку. Случайно в руках у меня оказался свежий номер «Известий» (до 1985 года из газет я читала только «Литературку»). Увидев там имена Синявского и Даниэля с ярлыками изменников Родины, я отреагировала непосредственно и чисто физиологически. У меня из-под ног стал уходить пол. К счастью, рядом оказалось старинное глубокое кресло. В этом кресле я долго сидела, зажав в руках газету, но не имея сил читать строки, изрыгавшие — опять! — гнилой огонь. Признаюсь, что и через двадцать с чем-то лет я не смогла прочитать до конца книгу «Цена метафоры», посвященную процессу Синявского и Даниэля. Это чтение причиняет мне физическую боль, какая бывает, если начать старательно расцарапывать едва зажившую рану.
Именно эта статья в «Известиях» покончила, как я сейчас понимаю, с эпохой шестидесятых. Разумеется, я не могла предвидеть, в какой мере арест и судебный процесс двух людей, с которыми я была довольно шапочно знакома, повлияет на мою собственную жизнь. Я не знала, началом чего это было, — но кожей почувствовала, что это было несомненным концом. Разумеется, не формулируя для себя, концом чего именно. Ведь как эпоха 60-е годы были осознаны много лет спустя. Конец их теперь принято связывать с нашим вторжением в Чехословакию в августе 1968 года. Но я думаю, что для определенной группы людей «конец прекрасной эпохи» наступил уже в 1966-м.
Пожалуй, действительно знакома я была только с Даниэлем. Андрея Донатовича Синявского я встречала в сугубо академических ситуациях, где нас друг другу по ходу дела представили. Юлик (Юлий Маркович) Даниэль был мужем аспирантки Сектора структурной лингвистики Института русского языка Ларисы Богораз. Кроме того, он был другом одного дома, где мы часто бывали.
У Елены Михайловны Закс, известной переводчицы с немецкого, был своего рода салон — люди время от времени собирались без всякого повода, просто чтобы поговорить. Хозяйке дома было тогда лет пятьдесят. Она жила с дочерью Аленой, которая была несколько моложе меня, и совсем старенькой мамой. Это был приятный и гостеприимный дом, замечательный отсутствием позы и какого бы то ни было пижонства. Застолье было самым скромным — пили чай с чем Бог послал. Соответственно вели себя и гости, хотя многие из них были люди именитые. Я помню читавшего свои стихи известного переводчика В. Левика, несравненную Риту Яковлевну Райт, благодаря любезности которой я тогда прочла рассказы Сэлинджера в оригинале, молодежь из самого интеллигентного тогдашнего журнала «Декоративное искусство», начинающих художников и разную пишущую публику.
Юлик Даниэль, Лариса и их сын Саня, в ту пору мальчик лет четырнадцати, были постоянными подопечными семьи Закс. Лариса привозила Саню мыться, потому что в развалюхе, где они жили, не то вообще не было горячей воды, не то ее постоянно отключали. Объектом особых забот был совершенно богемный быт Юлика. Здоровье он потерял на войне и часто хворал, но к себе относился привычно небрежно. Алена и Елена Михайловна ему постоянно пеняли, но это выглядело безнадежным делом. Алена возила ему то еду, то сковородку.
Все знали, что Даниэль пишет стихи и переводит других поэтов (мне запомнились его переводы из Ивана Драча, он читал их как-то в институте). Что до прозы, то впоследствии Алена долго не могла поверить, что Юлик действительно мог быть автором приписываемых ему объемных сочинений — ей казалось, что ему недостало бы усидчивости.
Я запомнила его улыбчивым и легким на разговор и шутку, сидящим на краю письменного стола в рубашке с воротом нараспашку. Лет через десять, в середине семидесятых, знакомые мне черты проступили в образе молчаливого человека в строгом черном свитере. Это было в доме одного писателя: мой приятель Сережа Чесноков пел там вполне еще запрещенные песни Галича и пригласил меня. Набилось тьма народу, в основном — люди между собой знакомые. Я знала, что Даниэль не имел права жить в Москве, и, как человек со стороны, решила промолчать. Позже Сережа, не знавший, что мы с Даниэлем ранее встречались, подтвердил мою осторожную догадку.
Возвращаясь в 1966 год, я обнаруживаю, что из всего, что произошло в период суда над Синявским и Даниэлем, я помню только одну подробность. Поскольку требовалось доказать, что Терц и Аржак — это псевдонимы именно Синявского и Даниэля, нужна была научная экспертиза по атрибуции текстов. Эту экспертизу предложили выполнить академику В. В. Виноградову, что в известной мере было логично: атрибуция по содержанию (т. е. не графологическая) — это искусство. Виноградов, открывший среди прочих находок неподписанный текст Достоевского, был виртуозом искусства атрибуции. Но он был еще и директором Института русского языка! Всего тремя годами ранее он председательствовал на моей защите. Да и вообще мы были знакомы — в частности, в связи с моей работой со «Словарем языка Пушкина».
В соответствии с моими понятиями о чести, Виноградов обязан был отказаться. Он согласился. Я выразила свое возмущение Лидии Николаевне Булатовой, которая при Виноградове два срока была председателем месткома. Она была иного мнения: от позиции Виноградова зависела судьба целого института, участь же Синявского и Даниэля решали другие люди. А нужное экспертное заключение Госбезопасность как-нибудь да обеспечит.
Жизнь показала, в какой мере Лидия Николаевна была права.
История позорного процесса над Синявским и Даниэлем и тесно связанного с ним дела Александра Гинзбурга, составителя «Белой книги» — сборника документов, относящихся к процессу, — достаточно известна. Я ограничусь в своих очерках рассказом о том, как повлияли эти обстоятельства на жизнь и взаимоотношения отдельных людей — прежде всего на мою собственную жизнь. Алика Гинзбурга знала вся молодая московская интеллигенция. К тому времени, о котором я рассказываю, он уже успел отбыть срок за издание рукописного журнала «Синтаксис». Алик жил с мамой, Людмилой Ильиничной, в комнатушках с печным отоплением. Разваливающаяся печка Гинзбургов была темой общих шуток. С Аликом была дружна моя недавняя дипломница Тамара Казавчинская, из рассказов которой я узнавала разные забавные истории из жизни пестрого общества, постоянно собиравшегося у Алика. Людмила Ильинична полностью разделяла жизнь сына, и его друзья относились к ней с сердечностью. Жили они открытым домом.
Я так и не познакомилась с Аликом. Получилось это случайно — в день, когда Тамара намеревалась нас с Юрой туда повести, мне подвернулись стулья — редкая удача по тогдашним временам. Это было, скорее всего, осенью 1965 года, когда мы только что въехали в свою новую квартиру.
События зимы 1966 года изменили всю конфигурацию человеческих отношений в среде, к которой мы принадлежали. Во-первых, все, кто был знаком с подследственными (Синявского и Даниэля арестовали осенью 1965-го), автоматически попали в категорию лиц, подозреваемых в сообщничестве или просто подозрительных. Хорошо известная машина стала на глазах набирать обороты. У кого-то были обыски. Кого-то вызывали для дачи показаний. И это происходило не где-то и с кем-то, а с людьми, с которыми я так или иначе была связана.


























