О нас – наискосок
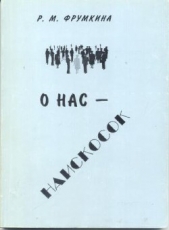
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Женщины в науке
Более всего афоризм о жертвах соответствует ситуации, когда науке посвящает себя женщина. (Может быть, это касается не только науки, но вообще всех творческих профессий, однако пусть художницы и балерины скажут о себе сами.) Дело здесь не только в трудностях нашего быта. Более важной мне представляется неизбежная коллизия в иерархии ценностей, возникающая из противопоставления семья — наука. Правда, поняла я это очень поздно, в силу чего много лет мучилась от очевидной бессмысленности выбора между домом и работой.
Вера в возможность гармонии поддерживалась тем, что вокруг меня преобладали именно те женщины, которые выбрали науку, а они не склонны были распространяться по поводу того, чего это им стоило. И уж вовсе было бы странно ожидать признаний в том, что выбор этот не оправдал себя.
Вспоминаю разговор по телефону, случайным слушателем которого я оказалась. Моя коллега уезжала в фольклорную экспедицию и с целью одолжить резиновые сапоги звонила по очереди многочисленным знакомым. Для меня ее реплики сливались в неясный шум, пока не возникло настойчивое повторение фразы: «Так все-таки тридцать восемь или тридцать девять?» По моим понятиям, у нее был другой, меньший размер обуви. Когда она положила трубку, я узнала, что 38 или 39 — это не про сапоги, а про то, что у трехлетнего сына ангина. В тот же день сапоги нашлись, и она уехала, отвезя ребенка к бабушке. Это была заурядная экспедиция и заурядная ангина.
У меня, скорее всего, не хватило бы решимости считать ангину заурядной. А если бы я ехала не в экспедицию на Урал, а с докладом в Оксфорд?..
Как бы там ни было, я откровенно завидовала тем, кому, на мой взгляд, подобный внутренний разлад не угрожал.
На самом деле за свою жизнь я видела не так много женщин, которые могли сочетать роль матери и хозяйки дома с серьезным научным творчеством. В действительности они сделали определенный выбор — и это был выбор в пользу науки, а не семьи. Последствия экзистенциального выбора в подобных случаях обычно представляются как прискорбная, но неизбежная бытовая неустроенность, а кулинария и тряпки — как малодостойная внимания тема.
Наш все еще вполне советский убогий быт, при всей его чудовищности, лишь обостряет конфликт, тем самым затушевывая его сущность. Последняя обнажается именно на фоне западного благополучия. Однажды на симпозиуме по психологии в Берлине я встретила молодую элегантную женщину, которая в свои тридцать четыре года уже была профессором одного знаменитого немецкого университета. При безупречной светскости в ней чувствовалась некая постоянная нервная напряженность. Уехала она внезапно, даже не появившись на традиционной прощальной вечеринке. В связи с чем я и поинтересовалась, есть ли у фрау профессор семья. Моя собеседница — недавняя студентка — поразилась абсурдности моего вопроса: о какой семье может идти речь? Разве не очевидно, что фрау профессор сделала иной выбор?
Свидетельства конфликта ценностей оставили, естественно, именно те, кто добился немалых успехов. Например, известный математик и писательница Е. С. Вентцель, мать троих детей, в одном из своих рассказов призналась, что у нее всегда страдал дом.
Наука как массовая профессия
Одно из самых счастливых состояний, пережитых мною, — это проснуться весной в шесть утра, потихоньку вытащить машинку на нашу шестиметровую кухню и сесть писать. И уж совсем прекрасно было в июне, на даче, устроиться, как только рассветет, за старым садовым столом под зацветающими жасминами и работать до отупения.
Процитирую еще раз Л. Я. Гинзбург: «Человеку может надоесть все, кроме творчества. Человеку надоедает любовь, слава, богатство, почести, роскошь, искусство, путешествия, друзья — решительно все. То есть все это при известных условиях может перестать быть целеустремлением, — но только не собственное творчество» (курсив мой — Р. Ф.). «Надоесть» здесь значит именно перестать быть целеустремлением, а вовсе не опротиветь.
Разумеется, сказанное справедливо не для одних лишь ученых — судя по контексту эссе «Неудачник», откуда взяты эти строки, имеются в виду вообще те, кто занят творчеством. «Целеустремление», вероятно, не обязательно, если просто работать от сих и до сих, рассматривая науку как службу. Но тогда не стоит и ждать от нее особых радостей. Служба не только может надоесть, но, я думаю, непременно надоедает всякому нормальному человеку. С некоторого времени, однако, в науке прочно и комфортабельно обосновался именно человек на службе.
Мое поколение гуманитариев — это появившиеся на свет в начале тридцатых и пришедшие в науку в конце пятидесятых. Обстоятельства позволили нам достаточно рано заявить о своей самостоятельности. У тех, кто был более общителен, вскоре появились ученики. Сами мы все еще имели счастье близкого общения с ныне уже легендарным поколением — людьми, родившимися в 1890 — 1900-е годы. Мы видели в них высокий образец, которому хотели бы следовать в меру своих возможностей. То, что мы так хотели быть похожими на наших мэтров и их круг, объяснимо: это был знак приобщенности к миру безусловных высших ценностей. Еще бы: для них ОПОЯЗ и Московский Лингвистический кружок были естественной средой обитания, а не чем-то, о чем можно узнать из энциклопедии.
Когда я читаю в «Рассказах об Ахматовой» Анатолия Наймана, что героями ее разговоров были именно Коля, Осип, Боря, а не Н. С. Гумилев или Б. Л. Пастернак, то вспоминаю, что и мне доводилось слышать об Андрее (великий математик А. Н. Колмогоров), Роме (знаменитый лингвист Роман Якобсон) и Колюше (Н. И. Тимофеев-Ресовский, известный широкому читателю как легендарный «Зубр» из романа Д. Гранина). Всем им я была в свое время достаточно буднично представлена. Это мне вовсе не льстило, а скорее страшило как знак доверия, выданный авансом неизвестно за какие доблести. Щедрость наших учителей позволила нам подключиться к тому ценностному слою, который был обеспечен золотым запасом научного и жизненного опыта этого поколения.
Л. Я. Гинзбург, вспоминая о сложностях отношений со своими учителями — с Эйхенбаумом, Тыняновым, Шкловским, — называет себя и своих товарищей «жестокими учениками». Имеется в виду ранняя научная самостоятельность и неизбежный в таких случаях бунт против старшего поколения — неважно, в каких именно формах.
Пожалуй, я бы предпочла видеть своих учеников «жестокими» в указанном смысле, нежели обнаружить, что они, будучи дружелюбны и даже сердечны по отношению ко мне самой, равнодушны к моим ценностям. Первое поколение моих учеников — это те, кто получил диплом ближе к концу шестидесятых. В это время наука в СССР стала массовой профессией. Научный бум быстро вышел далеко за пределы математики, физики и структурной лингвистики. Вполне закономерно, что наряду с энтузиастами, которым была нужна наука ради нее самой, в науку пришли случайные люди. Сами о себе они этого чаще всего не знали. Занятия наукой представлялись им — тоже не вполне осознанно — как такая деятельность, где ценой не слишком больших усилий можно совершенно законным образом получить большие результаты (эта мифологема оказалась чрезвычайно живучей).
Для менее честолюбивых работать в науке значило «интересно жить». Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что понятие «интересная жизнь» вовсе не было связано с научной работой как таковой, а лишь с социальным престижем науки, в чем бы он ни выражался. Для третьих вообще интересная жизнь начиналась тогда, когда рабочий день прерывался для чаепития, а еще лучше — заканчивался.
Впрочем, нескончаемое чаепитие — непременный атрибут быта любого советского учреждения. И все же работники Госбанка или какого-нибудь министерства никак не могли рассчитывать на то, что в конце рабочего дня к ним придет читать лекцию сам Аверинцев! Или что они будут из тех немногих, кто увидит только что смонтированный фильм Иоселиани «Пастораль» и самого режиссера в придачу. А вот сотрудники Центрального экономико-математического института или любого другого научного учреждения с добротным названием и активной культкомиссией имели такие возможности более или менее регулярно. «Научная работа» для многих лишь заполняла промежутки между капустниками, встречами с художниками и турпоходами.


























