О нас – наискосок
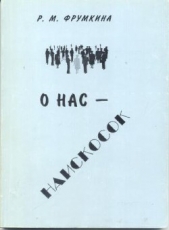
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Суть конфликта в этом романе в том, что еще в до-гитлеровской Германии главный герой — писатель — за свою статью (или книгу — уже не помню точно) попадает в тюрьму, а его невеста посвящает свою жизнь борьбе за его освобождение. Именно в те годы «Успех» многие из нас перечитывали.
Позже рассказывали, что в КГБ Алику сказали: «Мы вас посадим, Гинзбург. Но не за это». И посадили. Это был обвал. Как я уже сказала, Алик и Людмила Ильинична жили открытым домом. Снобизм этой семье был органически чужд. Поэтому двери там действительно были открыты для каждого. Так, с Аликом много лет дружила моя знакомая Галя З. — славный человек и вообще «своя в доску». Ее особо не занимали ни политика, ни новые художественные течения, так что посреди какого-нибудь спора о кубизме она могла увести Алика на кухню со словами «Пойдем выпьем!». Конечно, у Алика был ее телефон — и сотня или сотни других.
Было, таким образом, немало людей, которые любили Алика, а позже — жалели его, Иру и его маму, но при этом они отнюдь не были готовы к вызовам на Лубянку, обыскам и угрозам. Получалось, что их вовлекли в «политику» помимо их воли. Особенно усложнялось дело тем, что, как всегда при бессудных расправах, последствия настигали многих вне сколько-нибудь очевидной логики, как свалившийся на голову кирпич.
X. преподавала в школе, и из КГБ туда звонить не стали. У., ее товарищ по курсу, работал в Исторической библиотеке и по необходимости имел доступ к «спецхрану». Это уже было подозрительно, и в библиотеку позвонили. Начальство откликнулось немедленным увольнением с «волчьим билетом». При этом ни X., ни У. не имели отношения ни к «Белой книге», ни к какой-либо иной деятельности: они просто были дружны с Аликом со времен их общей студенческой юности.
Подобные ситуации неизбежно порождали взаимные претензии и ссоры. У. пытался хлопотать о восстановлении на работе — друзья обвинили его в предательстве и карьеризме. Осторожность приравнивалась к трусости, грань между смелостью и бравадой была слишком тонка. Ни у кого еще не было того практического — и трагического — опыта конспиративной деятельности, о котором впоследствии писал Солженицын. Отсюда неблагообразие диссидентской повседневности, где сочетались бескорыстие, безответственность и безбытность. Общий дух этого неблагообразия довольно близко к действительности описан в романе В. Кормера «Наследство».
Болезнь
Еще весной 1966 года я стала чувствовать какое-то недомогание. Мои жалобы «тянули» на хронический аппендицит. Поэтому мама, которая в свои 69 все еще обладала железным здоровьем, все-таки отправила меня к врачу, велев сделать анализ крови. Врачиха посмотрела бумажку с результатами анализа, помяла мой живот и ничего не нашла. Я пыталась убедить ее в том, что число белых кровяных шариков (важнейший показатель воспалительного процесса) для меня было необычно велико, хотя формально оно соответствовало верхней границе нормы. Она только фыркнула.
В начале июля мы уехали в Прибалтику. Оттуда недели через две Юpa привез меня в Москву с сильнейшим кишечным кровотечением. Следующий месяц я помню смутно. В Боткинской диагноз мне поставили сразу. Болезнь моя называлась «неспецифический язвенный колит». Первое слово на языке простых смертных означало, что происхождение процесса неизвестно, последнее — указывало на то, что поражен кишечник. Второе служило как бы эвфемизмом — по тяжести это заболевание несопоставимо с обычной язвенной болезнью. Я чувствовала, что дела мои плохи, но не знала насколько. Из литературы вытекало, что — совсем. Все это походило на дурной сон. Я лежала дома на диване и плакала.
Тем временем мама нашла научно-исследовательский институт, где специально занимались этим сравнительно редким в нашей стране заболеванием. (Позже я узнала, почему оно считалось у нас редким — врачи склонны были ставить таким больным диагноз «дизентерия», и больные просто умирали.) Все, что мама могла, — это отвезти меня на консультацию к кому-нибудь главному. Главной оказалась доктор Я., довольно молодая женщина, которая лечила больных вроде меня хирургически.
Я. была эффектной молодой дамой: длинная шея, тонкие губы, но равнодушные глаза. Погода была летняя, и свой отменно накрахмаленный белый халат в талию она носила непосредственно поверх дорогого белья. У нее были резкие движения и манеры человека, привыкшего повелевать. Меня, как больную и просто человека, она ни тогда, ни позднее не удостоила сколько-нибудь внимательным взглядом, хотя при этом ее обращение имитировало разговор на равных. Дескать, я — ученый и ты — ученый, я доктор, и ты из врачебной семьи, зачем нам лишние церемонии?
Первый и, по существу, единственный разговор с ней предопределил слишком многое в моем мироощущении и жизненных обстоятельствах, чтобы я могла его забыть. Вот примерно то, что я услышала: «Детей иметь нельзя. Абортов делать нельзя. Оперировать тебя нельзя. Скорее всего, ты, конечно, умрешь. Пока что тобой будет заниматься доктор Л.».
Доктор Л. на вид был добродушным малым украинско-одесского типа. Он завел на меня историю болезни, долго и с интересом расспрашивал, когда и как все это началось, много записывал и ничего не пояснял. Позже у меня было много возможностей убедиться в том, что он был не столько добродушным, сколько равнодушным. Пока он писал, я с ужасом ждала, что он предложит мне лечь к ним в отделение. С ужасом потому, что оба они — и Я., и Л., — разительно отличались от всех врачей, с которыми мне когда-либо доводилось сталкиваться. Даже участковый врач, замученный вызовами и торопливо выписывающий на краю стола больничный лист, приходил ко мне как к больному человеку. Здесь же я сразу почувствовала себя подопытным животным. К сожалению, позже это впечатление подтвердилось. Оно едва не стоило мне жизни.
Кончилось тем, что меня отпустили домой, рекомендовав очень строгую диету. Я чувствовала, что теряю последние силы. Через некоторое время Л. выдал маме два флакона оранжевого аптечного стекла. В каждом было по 50 больших желтых таблеток. По словам Л., институт получил из Швеции новый экспериментальный препарат на испытание. Мне следовало принимать максимальную дозу — по восемь таблеток в день. К флаконам прилагалась подробная аннотация, которую я читать не стала. Юра ее внимательно изучил, но что именно там было сказано — мы не обсуждали.
Приближался долгожданный Съезд психологов. Л. сказал Юре, что я так плоха, что, если я хочу, можно меня туда возить — это ничего не изменит. Но неожиданно для меня лекарство подействовало, притом прямо-таки магически: через неделю все симптомы просто исчезли. Я была очень слаба, но в те времена такси от метро «Аэропорт» до университета было нам вполне доступно.
Съезд промелькнул, как и все подобные слишком большие сборища, в суматохе, тогда мне казавшейся захватывающей. Мимо меня проходили люди, до той поры существовавшие только как авторы статей и книг. С кем-то я познакомилась сама, кому-то меня представили. Трое симпатичных французов побывали у нас дома. Моя коллега Лида Бондарко, известная ленинградская фонетистка, пришла к нам в гости со своим мужем, Вадимом Глезером. Вадим Давидович Глезер, уже тогда крупный физиолог, заведовал в Колтушах Лабораторией зрения. Он был готов принять меня там и показать их тахистоскоп, смонтированный, как водится в России, лаборантом Женей из подручных материалов, но уникальный по многим параметрам.
В целом же съезд был очень духоподъемным мероприятием. Считала ли я тогда, что выздоровела? Безусловно, нет. В таком случае, как вообще можно было строить планы на поездку в Ленинград? Надеялась ли я, хотела ли успеть сделать нечто до того, как?.. Тоже нет — это попросту не мой тип мироощущения. Не так давно одна моя ровесница, ученый с именем, сказала мне «Я хочу, чтобы после меня осталась книга». Меня это поразило. Я никогда не задумывалась о том, что останется «после меня».
Салазопирин — так называлось мое лекарство — кончился у меня примерно тогда же, когда кончился Съезд психологов. И почти сразу же вернулась болезнь. Теперь я осознала, что это действительно конец. Я катастрофически худела и как-то тупела. Один раз я еще съездила к врачам. Л. сказал, что салазопирина у них для меня нет, но ведь я уже приняла достаточную дозу. В ответ на мой вопрос, как же быть дальше, доктор Я. повернула голову в сторону Л., который был поблизости, и капризным тоном сказала: «Миша, я не знаю, что с ней делать!» Я почувствовала, что теряю самообладание, и вышла не попрощавшись, желая лишь одного — никогда больше не видеть их обоих.


























