О нас – наискосок
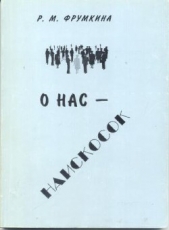
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Остаток дня Н. лежал на ковре в большей из комнат нашей маленькой квартиры и чинил шкалу. Испытываемое мною в это время чувство глубокого покоя вполне заменяло любой праздник. Собственно, именно это чувство и было праздником. Заодно зашел разговор о Новом годе. Н. сказал, что по традиции проводит его с матерью. Но вот если бы мы с Юрой вознамерились праздновать сочельник, т. е. 24 декабря, то это было бы замечательно, тем более что заодно мы бы отметили и день моего рождения. Праздновать день рождения я не собиралась, но сочельник означал общий праздник — а это было совсем другое дело.
Так в нашем доме возникла традиция праздновать Рождество по Новому стилю, сохранившаяся до сих пор.
Н. был разнообразно образован и свободно владел английским. Свободно знал он и польский и прекрасно перевел — просто для себя — несколько рассказов Марека Хласко, которого у нас до недавнего времени не издавали.
В середине шестидесятых все мы в известной мере были полонофилами, хотя учить польский язык мне бы и в голову не пришло — я была слишком поглощена другим. Наше с Н. и другими моими друзьями полонофильство возникло не потому, что польское радио, газеты и журналы могли служить нам окном на Запад — эта тенденция характерна уже для следующего поколения. (В середине семидесятых и я выучила польский, хотя в иной связи.)
Я думаю, что главной побудительной причиной нашего интереса к Польше послужил феномен польского кино. Именно благодаря кино глазами таких режиссеров, как Вайда, Мунк и Кавалерович, мы взглянули на недавнее прошлое. (Первый польский фильм, который я увидела еще до того, как вокруг стали говорить о польском кино в целом, назывался «В поисках прошлого».) Мы как бы сами пережили Варшавское восстание, трагедию варшавского гетто, вообще попытались осмыслить войну, верность, предательство и смерть. Замечу, что именно тогда Хедрик Смит, московский корреспондент «Нью-Йорк таймс», в своей знаменитой книге «The Russians» назвал одну из ее глав «Война кончилась только вчера».
Мне кажется, что многие важнейшие составляющие мировоззрения — те, что справедливо называются такими возвышенными словами, как историческая память, чувство родины, гражданская ответственность, моральный долг и им подобные, — постигаются нами непосредственно из воздуха эпохи. Сам же воздух слагается из многого. Польское кино и «Биллиард в половине десятого» Генриха Бёлля с его фразой о «причастии буйвола», «Дневник Анны Франк», инсценированный студенческим театром МГУ, —
Когда у Н. родился сын и он назвал его Антоном, в честь одного из героев восстания в гетто, я не усмотрела в этом ничего удивительного. История восстания в варшавском гетто замалчивалась много лет. А история Варшавского восстания и подлинная роль Армии Крайовой, равно как и преступное невмешательство наших войск, еще ждут беспристрастных летописцев. Официально наше правительство в середине девяностых наконец как будто бы рассказало правду о Катыни. Мы же еще тридцать лет назад переживали Катынь как наш национальный позор.
Н. с его фрондерством и открытой ненавистью к газете «Правда» и я с моим нежеланием бессмысленно «нарываться» были в равной мере людьми глубоко социальными, и в этом смысле нас следовало бы считать типичными шестидесятниками.
Саша Полторацкий умер от рака летом 1995 года. Познакомились мы в начале шестидесятых. Саша только что кончил филфак по английской кафедре. Знакомство это до моей болезни имело характер несомненной, но довольно поверхностной приязни. При незначительной разнице в годах между нами была существенная разница в положении. Я была в некотором роде «матрона»: замужняя особа, с известностью и учениками, которые обращались ко мне по имени и отчеству.
Саша же пребывал в амплуа Керубино. Позже мы с ним вспоминали этот период его жизни как времена, когда он носил мальчишескую курточку на молнии, и Саша подарил мне фотографию, где он в ней снят, с надписью: «На память о мальчике в курточке».
Внешность Саши была самая обычная. Выделялся он своими манерами, которые выглядели бы более естественно, если бы он носил не курточку, а камзол и шляпу с плюмажем. Или смокинг. Но на нем особым образом смотрелся даже пресловутый синий прорезиненный китайский плащ на клетчатой подкладке — униформа многих тогдашних мужчин. (А. А. Реформатский носил такой же, потому что ничего другого просто не было в магазинах.)
Саша всегда был не просто элегантен, но элегантен подчеркнуто. Если Н. при многих странностях характера был естественен в манере говорить и двигаться, то Саша, за которым особых странностей не водилось, был скорее театрален. Вообще он был человек ритуала.
Ритуалы распространялись на все на способ заваривания чая и кофе, на то, в каких конвертах следовало посылать новогодние поздравления, какие галстуки по какому случаю носить, как именно мыть голову и т. д. Будучи человеком весьма скромных средств, в командировку он ездил со своим маленьким кофейником и подходящим к нему подносом.
Однажды он совершенно всерьез сказал мне: «Ах, Рита, я Нарцисс!» Нарцисс тогда жил вместе с родителями в 18-метровой комнате, в старинной московской коммуналке, где он в очередь с соседями мыл полы в «местах общего пользования». Спал он на раскладушке, которую раздвинуть можно было только так, чтобы изножье поместилось между тумбочками маленького письменного стола. Саше было уже под сорок, когда отец его, почетный железнодорожный служащий, будучи человеком сильно в годах, получил наконец хорошую двухкомнатную квартиру.
К этому времени Саша давно преподавал в университете, защитился, был известен среди англистов. В любой работе — будь то преподавание, перевод, статья или комментирование текстов — Саша был перфекционистом. Казалось, небрежность — это нечто, о чем он мог бы спросить: «А что это такое?».
Когда я заболела и мы вынуждены были вернуться в Москву, я отчего-то решила Саше сообщить, что я не в Эстонии, а дома. Он почти сразу приехал с видом человека, наносящего светский визит по случаю дня ангела. Не меняя тональности, как если бы это было издавна заведено, Саша стал звонить мне чуть ли не через день и заезжать ненадолго, но часто.
Предлоги были разнообразны — он привозил то книгу, то пластинку. Все это обставлялось так, как если бы эти приезды были нужны не мне, а ему самому. Со всеми необходимыми церемониями он заваривал крепчайший чай, рассказывая о том, как домработница О. С. Ахмановой говорила: «После Александра Ивановича семья целую неделю может чай пить». Вынимались лучшие чашки и подаренные мне мамой тарелки старинного фаянса. Саша долго колдовал над чайником, потом наливал мне несколько капель заварки.
Суть наших разговоров была не столь важна, как Сашино присутствие Значимые его фразы начинались словами: «Дорогая моя, не мне вам говорить, что…» Что при моем характере, даже и не выходя из квартиры, я успею сделать больше иных прочих. Что мне пора научиться печь пироги на дрожжах. (Мы заключили пари, и я научилась.) Что мне необходимо сшить платье (имелось в виду нечто нарядное). Что существует особый способ настаивать водку на апельсиновых корках. Что я непременно должна прочесть малоизвестную тогда книгу Даррела «Александрийский квартет» (он ее раздобыл). Ну, и так далее.
Все лето и осень — самое тяжкое для меня время — Саша приходил с цветами. Это были любимые мною полевые и обычные наши садовые цветы — крупные ромашки, васильки, астры. Саша вручал мне букет, после чего начинался ритуал помещения цветов в вазу. Он долго обрывал листья, подрезал или расплющивал стебли, примерялся то к керамической кружке, то к хрусталю. Он же решал, где цветы будут стоять — на подоконнике? На книжной полке? Более всего это действо напоминало балет.
Трудно с определенностью выразить, чем это для меня было. Не то, чтобы меня все это веселило, хотя в Сашиных «пассах» было много забавного. Скорее это складывалось в материю жизни, неизменно многоцветную, которая была значима сама по себе. Возникала некая плотная среда, которая меня облекала и тем поддерживала. В разных формах это длилось несколько лет, тем более что в 1968–1969 годах мне было суждено пережить рецидив болезни, не оставлявший уже совсем никаких надежд.


























