Дочки-матери
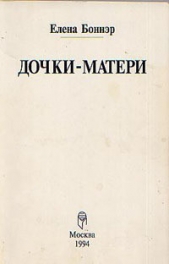
Дочки-матери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Летом сорок пятого я ехала из Беломорского военного округа в командировку в Архангельск. В купе был какой-то старший офицер. На одной из остановок, переходя тамбур, он здорово разорвал свою гимнастерку ( не китель, но не х/б, а темного тонкого сукна) и очень огорчился. Я решила его утешить. Из нижнего шва гимнастерки вытянула несколько ниток и заштопала так, что заметить штопку можно было только зная, где она расположена. И в награду получила комплимент, который тогда звучал несколько сомнительно: «Ну, лейтенант, ты работаешь прямо, как немка».
Девочек в то время одевали совсем не так, как сегодня. Надевалась рубашечка, тканая, в зависимости, видимо, от дохода семьи, из полотна, мадеполама или батиста. На нее надевался лифчик, застегивающийся сзади, а сбоку к нему пристегивались резиночки, которые держали чулки. Позже лифчик заменился резиновым пояском. Штанишки были байковые, шароварчиками. позже им на смену пришли трикотажные — они появились году в 35-м или даже 36-м. Эмма Давыдовна же ввела в мой обиход еще маленькие ситцевые трусики, которые сама нашила. Их полагалось надевать под штанишки и менять каждый день. Ни у кого из девочек я такого не замечала. Дуся поварчивала на это нововведение и тоже, почти как тот офицер, называла его немецким. Я же привыкла, и трусики Эммы Давыдовны дожили со мной до войны. А в армии я придумала мастерить их из защитного цвета медицинских косынок, употребляемых для подвязывания травмированной руки. И по сей день, распаковывая пакет с новыми трусиками (ах, какие они теперь тоненькие и прелестные, особенно «неделька» и присылаемые Таней или Лизой), я невольно вспоминаю те, которые шила Эмма Давыдовна, или свои «армейские».
Кажется, зимой 34-го года МК организовал загородный детский сад в Барвихе. Мама устроила туда работать воспитательницей Эмму Давыдовну. Таким образом, Эмма Давыдовна приобрела социальный статус. Вначале она жила там в каком-то общежитии. Позже получила малюсенькую комнатку в старом деревянном, похожем на барак доме — я пару раз там бывала у нее. Находились дети там постоянно, но их можно было брать на выходные и праздничные дни. Игоря мама отдала в этот детский сад. Его довольно много брали домой. Иногда за ним ездила мама, но чаще — в свои выходные привозила Эмма Давыдовна. Жил Игорь там до времени, когда пошел в школу. Тогда Эмма Давыдовна стала бывать у нас реже — она не любила ездить в Москву. Мне кажется, она была довольна, что почти весь круг ее общения — дети. И что она, наконец, приобрела какое-то положение и самостоятельность в этом вообщем-то чуждом ей мире.
В июне 37-го после ареста папы Эмма Давыдовна была у нас последний раз, очень напуганная. Она что-то говорила о своем паспорте, где нет прописки в «Люксе» — и, соответственно, вроде как нет следов того, что она как-то связана с нами — что мама уже не сотрудник МК, а студентка Промакадемии. Она надеялась, все забыли, что это мама ее «устроила» на работу, и поэтому она вроде как просит у мамы права не бывать у нас. Наверное, страх боролся в ней с присущей ей глубокой порядочностью. Мама, которая все еще была в шоке от папиного исчезновения, с ней соглашалась, хотя я видела, что все, о чем говорится, не доходит до ее сознания, как бы скользит. Ушла Эмма Давыдовна, как-то растерянно озираясь, не поцеловав ни Игоря, ни меня и даже ничего нам не сказав. Больше мы ее не видели.
Года через два Аня случайно встретила ее на улице. Эмма Давыдовна жила там же, в Барвихе, но работала в другом детском саду, наверное, сочла, что спокойней работать не в таком привилегированном и там, где никто не будет знать о ее связи с нами. Так что гроза 37-го ее обошла. Но впереди была еще война, и я сомневаюсь, что ее могло обойти то, что было со всеми, у кого в паспорте в графе «национальность» стояло «немка».
Почти одновременно с появлением Эммы Давыдовны в нашем доме стала ежедневно, кроме выходных, бывать Евдокия Ивановна — всегда в часы, когда папы и мамы не было дома. Насколько я понимаю, присутствие Эммы Давыдовны (уж такой она была человек) не раздражало их. Евдокия Ивановна же была чуток «невыносимая» — в странной, чуть ли не прошлого века шляпке, которую не снимала, в митенках, манерная и жалкая до слез. Была она вдовой двоюродного брата Батани Михаила Рубинштейна. Он был известным музыкантом, кажется, первой скрипкой в оркестре Большого театра, и умер в конце 20-х годов. Она была из старинного дворянского рода. Родные ее давно порвали с ней всякие отношения из-за того, что она вышла замуж за еврея. Я не знаю, оставались ли они в России или эмигрировали. После смерти мужа она, видимо, очень нуждалась, почти нищенствовала. Батаня всегда старалась ей как-то помогать.
К нам в дом Батаня привела ее под видом того, что она будет с нами — детьми — обедать, заниматься французским и тоже «обучать манерам». С французским и манерами не получилось, но две трудных и голодных даже в Москве зимы Евдокия Ивановна приходила каждый день — жила она совсем рядом, в Леонтьевском переулке. Иногда она ходила гулять с Игорем, но чаще всего вела разговоры «про прошлое», которые вежливо-внимательно слушала Эмма Давыдовна, очень заинтересованно — наша тогдашняя домработница Дуся и я. И обедала она с нами, то есть Егоркой, Эммой Давыдовной, Дусей и мной. Мы с Игорем ее жалели потому, что все время ощущали ее бедность. Эмма Давыдовна штопала ей платье и чулки, а Дуся снисходительно говорила: «Вы уж приносите свое белье, заодно и постираю». Сама же Евдокия Ивановна, кажется, ничего не умела, даже жить. Но, видимо, умела любить. Ее воспоминания были просто переполнены любовью к покойному мужу, может, чересчур поэтичны и сентиментальны, но не слезливы. И еще это были воспоминания о музыке; где, что, когда исполнялось, как принимала публика в первый раз какое-то музыкальное произведение, что потом писали в газетах. Какие концерты она слушала в консерватории или в Париже. Какие оперы и балеты ставились в Большом или в Милане. При этом она часто напевала что-то из симфонии или оперы. И все перемежалось воспоминаниями о театральных разговорах и туалетах, которые тогда были в моде. И тщательно описывала, какое платье было на ней в тот или другой раз. На щеках у нее появлялся румянец — такой же, как когда я видела, что Дуся заворачивает ей с собой кусочек хлеба или еще что-нибудь. Но Дуся не любила, когда я это видела. А на голубенькие глаза Евдокии Ивановны навертывались слезы. Тогда я начинала верить словам Батани. что когда-то Дуня была «очень, очень хорошенькая». Мама заочно (и мы это иногда слышали) называла ее «Дунька», и это было неприятно.
Году в 35-м ежедневное хождение к нам Евдокии Ивановны кончилось. Видимо, стало несколько легче жить-прокормиться. Она стала бывать у нас только, когда из Ленинграда приезжала Батаня.
После войны Евдокию Ивановну опекал Виктор Рубинштейн, младший сын Батаниного брата, дяди Моей. Умерла она в середине пятидесятых годов. Не знаю, где она похоронена, возможно, в могиле мужа. Он похоронен на Новодевичьем, на том участке, где многие артисты Большого театра. Евдокия Ивановна сама придумала и поставила ему памятник — большая, старинная, больше чем в половину человеческого роста, белая ваза (может, из ее сохранившихся от прошлого вещей) на белом каменном постаменте, и на ней нотные линейки с двумя нотами — «ми» и «фа» — так она называла мужа — Мифа.
В конце лета 1934 года у нас появилась Зинка, младшая сестра жены маминого брата. Она приехала из Сретенска, и поселила ее у нас тоже, конечно, Батаня. Каля и Зина были дочерьми священника, а это в то время (да и после!) затрудняло возможность получения образования. Зина же собиралась поступать на медицинский. Видимо, Батаня сочла, что это лучше делать не сразу, а поэтапно. Таким этапом было выбран рабфак. Зину пристроили куда-то работать, и она поступила на рабфак — сразу на второй курс. Вообще-то я думаю, что ее полученного до этого образования вполне хватило бы, чтобы сразу поступать в институт, но со справкой рабфака это было надежней. Учиться ей было, наверное, очень легко. Во всяком случае, я не помню, чтобы она этим особенно занималась. Работа тоже не изнуряла ее.
























