Дочки-матери
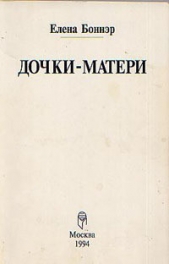
Дочки-матери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наш дом тогда надстраивали. Дом был с эркерами. На высоте пятого этажа из окна эркера в другое окно была проложена доска. То ли мы были «казаками», то ли «разбойниками». Жарко побежал по этой доске над пропастью, крикнув остальным «за мной». И я мгновенно, не задумываясь, пробежала за ним. Остальные из нашей партии остались «на том берегу». Мне и сейчас страшно, когда я это вспоминаю. Я — всегда помнящая о женщине, бросившейся с Исакия, и о мальчике, выпавшем из окна, ничего тогда не вспомнила. Просто — побежала. Правда, и вообще, несмотря на память о том, чувство боязни высоты у меня не развилось — не я падала.
Если до этого Жарко относился ко мне, похоже, весьма потребительски — можно прийти поесть, а может, можно и что-то стибрить из карманов пальто, висящих в передней (я это замечала), то после пробега по доске, его отношение изменилось. Он меня «зауважал», возникла дружба, которая постепенно приобрела оттенок влюбленности. Однако поцелуев не было, видимо, потому, что я стала старше, чем во времена «первого поцелуя», но до «настоящего» еще не доросла. Я даже ходила с ним по «Бахрушинке», и меня знали его тамошние приятели. Иногда, когда торопилась в школу или из нее, то даже рисковала пробежать одна — так было на пару минут быстрей.
Постепенно наша дружба-полулюбовь сошла на нет. Меня все больше занимали уже не «люксовские» связи, а школьные. Я была полна стихами, книгами, даже политикой и на пути к своей первой любви. В 37-м, когда все это было уже на своем пике и еще озарено остро ощущаемой приближающейся трагедией (собственно, в других семьях она уже пришла), я Жарко совсем не помню, хотя жил он по-прежнему в том же доме. Он исчез из моей жизни. Говорят, что он стал отчаянным сердцеедом, что легко представляю — был он парнишкой невероятно складным, со злым и веселым лицом, рыжим чубчиком и светлыми отчаянными глазами, которые, наверное, с возрастом стали еще и охальными. Думаю, что в годы нашей дружбы он был значительно «просвещенней» в романическом плане, чем его сверстники. Говорят, что смельчаком он оставался и в годы войны. Пройдя вместе с Тито югославский партизанский путь, стал, кажется, генералом.
Я написала о Жарко в мае 1988 года. А в сентябре или октябре мне в руки попала книга Милована Джиласа «Мой друг Тито». Оказалось, что я излагала «легенду». Как в детективах рассказывают о шпионских «легендах», так и здесь, только это была «легенда» коминтерновская. Не мне судить, чем они различаются и какая лучше. А может — «обе хуже»? Джилас пишет, что Жарко — сын Тито от первого брака. Мать его — советская, русская женщина. В то время, о котором я пишу, она жила в Советском Союзе. Может, в Москве.
И все написанное мне показалось несправедливым — батон из булочной, мои коньки, парни с «Бахрушинки». Просто мальчик создавал себе свой мир, чтобы как-то существовать в «легенде».
В «Люксе», как снег на голову, пришла ко мне первая дружба. В вестибюле третьего этажа однажды оказалась новая девочка — откуда она переехала или приехала, не помню. Она была ниже и вообще мельче меня, хотя оказалась старше на целый год. Ее звали Лена. Лена Кребс. Она была и «советская», и нет. У нее где-то была советская мама. Папа был еврей, но как-то связанный со Швецией, может, родом оттуда. Жила Лена с ним и с мачехой, которую звали Биночка. Она была шведка. Очень любила Лену, и Лена ее. При первой встрече с Леной, с первых же ее слов, я поняла, что у меня будет настоящая подруга, первая, единственная, на всю жизнь. Что, оказывается, у меня подруг раньше просто не было, и раньше я не знала, что такое дружба. И без слов увидела это же чувство в ней. Я не заметила, как другие девочки, бывшие тут же, разбежались, и мы остались вдвоем. Мы стояли в углу около батареи (я эту батарею и ее тепло ощущаю до сих пор) и разговаривали, разговаривали. Потом Лена вдруг сникла, сказала, что она устала и что ей надо домой, но не ушла, а мы сели на диван. Она как-то по-взрослому сказала мне, что она вообще-то очень больна, ей не разрешают выходить из комнаты, потому что у нее порок сердца, и она мало бывает с детьми. Так что если я хочу с ней дружить, то мне надо к ней приходить. И мы сразу пошли к ней.
В первый момент я приняла Биночку за девочку — такая она была худенькая, маленькая, хрупкая. Потом почти сразу разглядела морщинки (у мамы их тогда совсем не было) и усталость. Лена сказала: «Биночка, это моя любимая подруга Люся, пожалуйста, полюби ее», Биночка молчала и смотрела на меня. Тогда я сказала: «Лена моя первая подруга, у меня раньше не было». Биночка как-то слабо и очень по-доброму улыбнулась, ничего не ответив. Но, по-моему, она меня тоже сразу полюбила. Во всяком случае, я всегда ощущала это так.
Жили они в двух комнатах, которые между собой не сообщались, но были рядом по коридору на четвертом этаже. Одна была папы Лены и Биночки. Другая — Ленина. Когда Лена была одна, Биночка почти всегда была с ней. Но стоило мне прийти, как Биночка старалась оставить нас вдвоем. Иногда, нечасто, приходили и другие девочки, но Лена признавалась мне, что ей с ними скучно.
С появлением Лены мой день резко изменился. Все послешкольное время зависело от Лениного распорядка. Лена училась в школе заочно, к ней иногда (но не очень часто) приходили учителя. Уроки я стала готовить у нее, и так как она училась в том же классе, то она всегда говорила, что учителя больше не нужны. Запоминали мы все как-то параллельно, одинаково быстро, и времени на это уходило мало. Прогулки, все коридорные «прятки», «казаки-разбойники» и прочее было теперь только, когда Лена отдыхала или ей надо было провести часок-дру-гой с папой. Она так и говорила — «на часок-другой». Но это бывало нечасто. Нашим любимым занятием стало «читать вместе». Я ложилась рядом с ней на ее широкий диван, и мы читали одну книгу — не вслух, а каждый сам. Только и слышалось каждые две-три минуты: «Ты кончила?» — вопрос, прежде чем перевернуть страницу. Мы почти не обсуждали прочитанное, было как-то само собой ясно, что у нас совершенно одинаковое восприятие прочитанного, общие эмоции и все прочее. Мы, взглядом не перекинувшись, вместе начинали смеяться или плакать. Мы ничего не скрывали друг от друга. Я даже знала, если Биночка плакала — это ее обидел Ленин папа, и Лена с ним поссорилась.
В «Люксе» очень многие взрослые любили заговаривать со мной. Часто я ощущала неискренность, особенно этим отличалась Стелла Благоева, и я ее за это не терпела. Я понимала, что эти поглаживания «по головке» и «как ты выросла» и «какая красивая» — зачем-то им нужное «подлизывание» к папе. Мне было ясно, что про себя они думают, что он «начальничек». Я, похоже, уже не любила «начальничков». Во всяком случае, я не хотела, чтобы папа им был. Иногда эти подлизы говорили: «Ах, как ты похожа на папу, а твой братик — на маму». А я про себя смеялась, потому что долго считала, что «причем тут папа, вот дураки, ребенка ведь мама рожает, и походить он может только на маму». И расстраивалась, и растравляла себя вновь и вновь, что я не мамина, вот ведь Егорка на нее походит, а я нет, значит, она мачеха. Правда, проблема мачехи стала не столь острой после того, как я узнала и полюбила такую мачеху, как Ленина Биночка. А про проблему «папы» я всегда молчала. Тот человек с палочкой, а потом в больнице, был самая большая тайна.
И однажды Биночка тоже сказала, правда, немножко по-другому и, конечно, без всякого поддизывания: «Люся, ты должна знать, что ты красивая девочка. Многие считают, что из всех девочек — самая красивая Маргит (чуть постарше нас девочка с третьего этажа), некоторые считают, что девочки Бран-дон (три сестры португалки с четвертого этажа), но мы с Леной с ними не согласны — мы считаем, что ты». Лена после Биночкиных слов стала смеяться и говорить: «Это ты, Биночка, считаешь, что Люся, а у Маргит вон глаза какие синие, а у Воли (одна из сестер Брандон) в три раза больше Люсиных». А Биночка вдруг сказала: «И ты очень похожа на своего папу». И я все рассказала Лене — про папу и «того» человека, который был моим отцом. Она была первый в жизни человек, с которым я смогла обсуждать это. Я, кажется, и от себя самой умудрялась это скрывать.
























