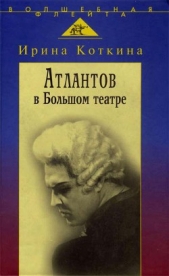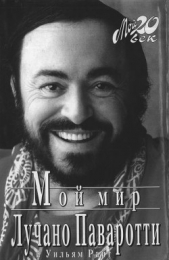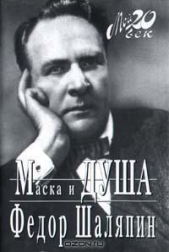Записки оперного певца
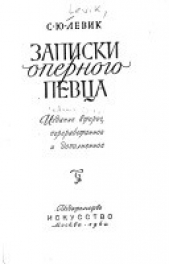
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итальянцы первые создали оперу, вначале рассчитанную на небольшие аудитории, а затем и на огромные. С голосом плохим по качеству звука и незначительным по габаритам нельзя было петь в таких театрах. И это повело к постановке перед обучающимися пению трудно разрешимых новых вокально-технических задач. Для разрешения этих новых задач были нужны голоса, хорошо опирающиеся на очень развитое и произвольно регулируемое дыхание.
Это можно было приобрести только путем длительных упражнений. Баттистини, например, рассказывая о своей работе над овладением техникой, назвал ее «восьмилетней войной».
История музыки знает много примеров того, как труд
<Стр. 137>
над приобретением мастерства (прежде всего работа над техникой) давал совершенно исключительные результаты. Макс Штейницар в своей книге «Мастера пения» среди прочих примеров напоминает о Полине Виардо, которая так работала над своей техникой, что, обладая большим меццо-сопрано, однажды экспромтом спела в Берлине в опере Мейербера «Роберт-Дьявол» в одном спектакле обе женские партии — сопрановую Алисы и колоратурную Елизаветы.
Могут сказать, что у Виардо было в голосе больше трех октав, что она была выдающимся музыкантом. Это верно. Но ведь есть еще физиология и механика колоратурного пения, то есть автоматизация преодоления его трудностей, которая без упорного труда, без длительной работы над упражнениями сама в руки не дается. Виардо это понимала и тренировалась на «дьявольских трелях» из паганиниевской G-мольной сонаты для скрипки. Об этом нужно помнить!
В борьбе за овладение этой техникой, этой школой итальянцам помогали многие исторически сложившиеся условия и, в частности, многовековая устная традиция. Отметим попутно, что благодаря некоторой близости фонетических особенностей русского и итальянского языков русским певцам эта школа-техника • во многих и многих случаях давалась в руки не меньше, чем итальянцам.
Если в XVIII и XIX веках итальянцы щедро импортировали в Россию свое вокальное искусство, то к началу нашего века они сами в массе были им не очень богаты. Конечно, если не считать, по бытовавшим тогда представлениям, что хорошее владение техникой пения было принадлежностью только итальянцев, то певцы всех народов мира пели по итальянской школе, даже никогда не слыхав итальянцев.
Такие певцы, как Баттистини или Ансельми, такие певицы, как Олимпия Боронат, Мария Гай или Адель Борги и другие, не только в совершенстве владели именно итальянской школой пения, не только сохраняли ее великолепные традиции, но, видимо, были бы в состоянии возродить даже виртуозный стиль, если бы современная им музыка хотя бы в каких-то отдельных чертах эволюционировала в сторону виртуозности. Однако это были единицы, составлявшие «шапку» афиши. Средняя же масса исполнителей не только не стояла с ними на
<Стр. 138>
одном уровне, но может быть расценена ниже многих средних русских певцов.
Каковы же были отличительные признаки этой основной массы итальянских певцов? Прежде всего сильные и выносливые голоса, зычные, нередко крикливые, даже при красивом тембре. Ничем особенным не выделявшийся тенор Карасса мог два-три дня подряд петь не только партии Радамеса или Рауля, но и партию Тангейзера без малейших признаков усталости. Меццо-характерный тенор, отнюдь не чисто драматический, Карасса был слышен в любом ансамбле. Однако это не была культура или хорошая школа, даже не тренаж, а просто замечательно здоровая природа голоса — и только.
Тенор Зенателло вульгарно открывал крайние верхи. Баритон Бернарди в «Африканке» вызывал недоумение, как это у него не рвутся голосовые связки. Их большие голоса сами по себе составляли весь смысл их певческой жизни. Не созданию цельного художественного образа посвящалось творчество этих людей, а максимально более выгодному показу голоса и «в профиль», так сказать, и «анфас».
Зенателло, например, в «Паяцах» так выносил свои верхние ля(в арии «Смейся, паяц») на рампу, что у него делалось сосредоточенное, обращенное в зал лицо: вы, мол, слышали у кого-нибудь такое ля, как у меня? При этом он выбрасывал руки на публику, как бы говоря: берите, пощупайте... И только сняв ляпосле значительно передержанной ферматы, он вспоминал, что ему еще надлежит рыдать и истерически расхохотаться. Тогда он делал «трагическую» гримасу и формально возвращался к своей роли, то есть к совершению неких «действий», из эффектов и существа его пения очень мало вытекавших.
Показать большое дыхание, уметь колоссально раздуть звук и раскачать его до того, чтобы у слушателя по телу забегали мурашки, подчеркнуть и поднести буквально «на блюдечке» каждое группетто—на это почти все Зенателло и Бернарди были мастера, но и только; делали они это нередко без отношения к музыкально-драматургическому материалу роли, а то и вопреки логике происходящего на сцене.
Назову и одно большое имя.
Как-то летом в киевском Шато-де-Флер у итальянцев шел «Севильский цирюльник» с Олимпией Боронат
<Стр. 139>
в роли Розины. Замечательная певица, она в качестве жены графа Ржевусского была помещицей Киевской губернии и чувствовала себя в Киеве как дома. Как и многие другие итальянские певицы, она имела в репертуаре несколько концертных номеров на исковерканном (иногда нарочито, из «кокетства») русском языке. Первое место среди них занимал, конечно, алябьевский «Соловей», которого она часто пела в виде вставного номера в уроке пения Розины.
И вот в упомянутом спектакле публика потребовала «Соловья», а Боронат не захватила с собой на сцену нот. Недолго думая, она подошла к окну и своим очаровательно звонким голосом попросила режиссера разыскать у нее в артистической уборной «Золовэй, мой золовэй». Пауза длилась минуты три, в течение которых божественная Олимпия с кокетливой улыбкой на устах два-три раза обращалась в публику с успокаивающим «уно моменто» (одну минуту). Когда ей через окно же подали ноты, она помахала ими в публику, подбежала к пианино, положила их перед доном Алонзо и спросила у публики: «Карошо, правда?»
Где же ей было думать об образе, о цельности сценического воплощения и заботиться о реализме спектакля в целом? А ведь Олимпия Боронат была одной из лучших певиц: обладая чарующим тембром, большой музыкальностью и всеми средствами итальянского бельканто, певица не нуждалась для увеличения своего успеха в заискивании у публики!
Однако пока мы говорим не о лучших представителях итальянской школы, а о массе посещавших Россию певцов из трупп Кастеляно, братьев Гонзаго и т. д. и т. п. От них ни большой певучести, ни того самого бельканто, с которым всегда связывались наши представления о классической школе итальянского пения, мы уже не слышали.
Средние певцы, правда, могли вызвать удивление своими природными данными. Устная традиция хорошего пения, ставшая плотью от плоти итальянского народа, возможность часто слушать хороших певцов, слуховое, пусть даже бессознательное, подражательное восприятие их великолепного искусства давали посредственным исполнителям некоторую видимость, отражение той школы, которой нас пленяли большие мастера. Но цельного
<Стр. 140>
художественного наслаждения они не доставляли — их устремления были направлены в первую очередь На внешне эффектную подачу звука. Каждая нота выявлялась у них чаще всего сама по себе, в зависимости от возможностей того или иного исполнителя, но именно сама по себе, сплошь и рядом вне связи с окружающими нотами.
Отсюда потеря ровности звуковедения, выравненности регистров. Рядом с закрытыми (сомбрированными), независимо от высоты, звуками возникали звуки, чуждые основному тембру, открытые, вульгарно раскрывавшиеся — особенно на ферматах перед квинтой вниз. Исчезала логика звуковедения, и на место простоты водворялась пестрота, а это убивало кантилену.
Гегель говорил: «У итальянцев обыкновенные звуки... с первого же мгновения пламенны и прекрасны: первый звук уже свобода и страсть, первый тон вырывается из свободной груди». Это в значительной степени верно, но тем не менее при всех природных дарах итальянцев их искусство стало падать.