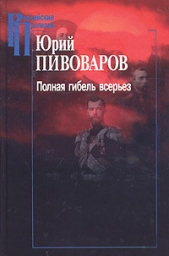Юрий Любимов. Режиссерский метод

Юрий Любимов. Режиссерский метод читать книгу онлайн
Книга посвящена искусству выдающегося режиссера XX–XXI веков Юрия Любимова. Автор исследует природу художественного мира, созданного режиссером на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке с 1964 по 1998 г. Более 120 избранных фотографий режиссера и сцен из спектаклей представляют своего рода фотолетопись Театра на Таганке.
2-е издание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Установленность, фатальная воспроизводимость происходящего звучала и в последнем аккорде спектакля – появлении трех мальчиков со свечами, безнадежно тянущих «О, Русь…», которые в конце спектакля оказывались на помосте точно так же, как и в начале, словно возвращая все к исходному состоянию.
В «Тартюфе» не было «массы», персонажи действовали индивидуально, каждый по-своему. Но все в тот или иной момент становились похожими на кукол. Стараясь повторить позы портретов, сценические персонажи на мгновение застывали и по существу удостоверяли свою «ненастоящесть». Искусственность поз переходила в искусственность движений. Марионеточны были и лихие выпрыгивания героев «из портретов», ускоренные пробежки и жестикуляция, нередко сопровождавшиеся характерной для кукол инерцией. Персонажи, действовавшие на площадке, оказывались в этом смысле уравнены с куклами Короля и Архиепископа, восседавшими в рамах у правого и левого порталов. Более свободной, человеческой была пластика Мольера, но и он уподоблялся остальным, когда вместе со всеми благодарил и кланялся, благодарил и кланялся, обращаясь к куклам в рамах.
В конце шестидесятых, в «Матери», режиссер попытался противопоставить автоматизму солдатской стены, обывательской кадрили, ритмически столь же строго организованной, – пластику хора, исполнявшего «Дубинушку», свободные движения Матери и других героев, а также одинокий выход Павла с флагом и напряженную статику хора, исполнявшего «Меж дремучих лесов затерялося». Противостояние прерывалось в конце спектакля на полудвижении, на полуслове хора с его «Дубинушкой»…
В спектакле «А зори здесь тихие…» немногочисленные эпизоды зловещего автоматизма немецких десантников контрастировали с миром человеческого, пусть и оказавшимся в катастрофе войны. В ритмически четком финальном вальсировании досок не было автоматизма, но не было и живой человеческой пластики…
Неостановимому механическому ходу монументального занавеса противопоставлялась хрупкость таганковского Гамлета. Окончательный проход занавеса оставлял в конце спектакля пустую сценическую площадку…
За три года до этого драматизм подобного рода, хотя и не в трагедии, возник в «Живом», вышедшем к зрителю в 1989, а поставленном еще в 1968. Там обыкновенная человеческая пластика Федора Фомича противостояла адскому механизму – перемещениям сколоченных между собой стульев, казенных стульев из красного уголка, прочно связанных в сознании сельчан с властью. По ходу действия они с размеренностью гильотины то опускались, то поднимались к колосникам. И хотя Кузькин одерживал микропобеду, не ею завершался спектакль. В финале стулья, как заведено, исправно возносились…
В «Обмене» танцующая на втором плане пара благодаря своей подвижности, красоте, жизни поначалу воспринималась как антипод статике, мертвенности целлофановой зачехленности авансцены. Но повторы танца, с точностью воспроизводимого еще и еще раз, оборачивались той же косностью, инертностью.
Будто по инерции двигался Ферапонт в «Трех сестрах»: то брался пересчитывать сестер, чередом поднимая один, два, три пальца; то ходил за персонажем со свечой; или начинал обкладывать персонажа веревкой с флажками.
Враждебный человеку ход жизни обнаруживался в обретении пластикой персонажей – жесткого ритма военного марша. То Тузенбах затевал свой жуткий танец, еще и еще раз проходя по сооруженному на сцене помосту, как заведенный, с конвульсивно вскидывающейся головой и, словно в судорогах, изгибающейся спиной. То Ириной овладевали подобного рода движения. То сестры начинали на помосте странное хождение по кругу, из которого, кажется, нельзя было вырваться. Или – уже на сценической площадке – пятились, уподобленные тем же марионеткам, разводя в отчаянии руками, пятились, пока не натыкались на гремящий со скрежетом железный задник-иконостас. А то вдруг старая нянька Анфиса пускалась в свой страшноватенький танец, тоже, подобно заведенной кукле, разводя руками и благодаря судьбу: «Вот живу! Вот живу!»
Жестко организованной пластикой наделялся в «Борисе Годунове» хор-народ. Трагизм ситуации оказывался обнажен, ибо перед нами представали и дирижеры, руководящие этим народом, как марионетками, а преступность дирижеров народу была ведома. Спектакль на этом настаивал, народ ни на мгновение не исчезал со сцены, он оказывался в курсе всего происходящего. Он знал о цареубийстве Годунова, о самозванстве Григория, о шкурных интересах Басманова и всех остальных, рвущихся к власти. Но всегда, как по команде, подчинялся силе, порой в пределах одной сцены несколько раз менял «покровителя», как, например, в сценах «Ставка» и «Лобное место», где народ метался, перебегая то к детям Годунова, то к Самозванцу, в зависимости от поступавших сообщений о том, на чьей стороне «перевес». Как по команде, он падал ниц перед государем. Как по команде, пускался после смиренной молитвы в неистовый разгул, распевая:
получив после борисовой коронации приглашение на пир. Недобрая энергия этого разгула рифмовалась с образом толпы, дико приплясывающей и угрожающе скандирующей в ответ на призыв Мужика на амвоне – очередного «дирижера» – «вязать борисова щенка»:
Этот чудовищный пляс сопровождался той же песней —
Перед нами представал ввергнутый в преступление народ, руководимый преступными дирижерами. Это был спектакль-апокалипсис.
В «Пире во время чумы», вышедшем после вынужденного почти шестилетнего перерыва в работе Любимова на Таганке, уже в новую, «перестроечную» эпоху – количество «степеней свободы», предоставленных персонажам, было, как ни странно, еще меньше. В сюжет «Пира во время чумы» режиссер включил остальные маленькие трагедии, множество пушкинских стихотворений и «Сцену из Фауста». По ходу действия то те, то другие «пирующие» отъезжали от «пиршественного» стола в своих креслах на колесиках, принимали на себя другие роли, разыгрывая то «Скупого рыцаря», то «Моцарта и Сальери», то «Каменного гостя», а затем возвращались, снова становясь героями «Пира».
Несколькими годами раньше, в «Доме на набережной», Друзяев задолго до постигшего его паралича был по воле режиссера «прикован» к инвалидной коляске. В новом спектакле все герои неразъединимы со своими креслами. Полным острого внутреннего драматизма оказывался каждый отъезд от стола. Он воспринимался как отказ, освобождение от коллективного действа, как индивидуальный выбор и поступок. Но ведь именно в этот момент и обнаруживалась «роковая» привязанность его к креслу, ограниченность его возможностей. Свободное парение всех героев, кроме Моцарта, непременно завершалось возвращением в исходную точку. Только Моцарт уходил по своей собственной «орбите», исчезая в глубине сцены. А «Пир» продолжался. В финале, когда лица скрывались под масками, застывала и мимика.

Пир во время чумы. Дона Анна – А. Демидова; Дон Гуан – В. Золотухин.
Драматизм пластики «Живаго (Доктор)» в полной мере обнаруживала уже «увертюра», в которой заявлялись основные мотивы, как это принято в музыке, и часто используется Любимовым…Из-за правых ширм резко вышагивает группа персонажей. На мгновение возникает будто крупный план ряда кулаков, захвативших воткнутые в землю лопаты. Из-за левых ширм одна за другой появляются женские фигурки. Порывисто выбегает одна, но, как бы сраженная, сникает, застывает. Потом другая, третья… Постепенно сцена заполняется ими. Это действо с применением элементов пантомимы и танца модерн продолжается «игрой» палачей с жертвами, перекатывающими их с помощью лопат по полу…