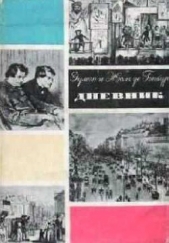Дневник. Том 1

Дневник. Том 1 читать книгу онлайн
Авторами "Дневников" являются братья Эдмон и Жюль Гонкур. Гонкур (Goncourt), братья Эдмон Луи Антуан (1822–1896) и Жюль Альфред Юо (1830–1870) — французские писатели, составившие один из самых замечательных творческих союзов в истории литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Их имя было присвоено Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев. Записки Гонкуров (Journal des Goncours, 1887–1896; рус. перевод 1964 под названием Дневник) — одна из самых знаменитых хроник литературной жизни, которую братья начали в 1851, а Эдмон продолжал вплоть до своей кончины (1896). "Дневник" братьев Гонкуров - явление примечательное. Уже давно он завоевал репутацию интереснейшего документального памятника эпохи и талантливого литературного произведения. Наполненный огромным историко-культурным материалом, "Дневник" Гонкуров вместе с тем не мемуары в обычном смысле. Это отнюдь не отстоявшиеся, обработанные воспоминания, лишь вложенные в условную дневниковую форму, а живые свидетельства современников об их эпохе, почти синхронная запись еще не успевших остыть, свежих впечатлений, жизненных наблюдений, встреч, разговоров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
маете, это для того, чтобы удостоиться диплома гастронома или
лакомки? Нет, для того, чтобы со временем получить какую-ни
будь государственную должность, а при меньшем честолюбии —
орден. < . . . >
478
Сегодня вечером мы из любопытства зашли в тот погребок,
который наш дядя де Курмон сдает за восемь тысяч франков, —
в «Кофейню слепых», один из последних остатков Пале-Рояля
и старых парижских увеселений.
Это низкий и душный погреб с двумя аркадами, где сидят
люди в шапках и фуражках, — так и кажется, что эти люди на
пятьдесят лет старше тех, кто ходит сейчас над нашими голо
сами. Они как будто только что узнали о победе при Аустерлице
или вернулись с похорон генерала Фуа. Среди них — последний
дикарь в диадеме из перьев, тоскующий по родине барабанщик
с тяжелыми, усталыми веками; он бьет в барабан с каким-то
предельным меланхолическим равнодушием. Слепые, молодые
и старые, с темными тенями в глазницах, под газовыми
рожками, свет которых бьет им прямо в лицо, автоматически
играют что-то крикливое и жалобное, как будто оплакивают
солнце. < . . . >
24 октября.
Движение, жесты, жизнь, составлявшие особенность драма
тических произведений, появились в романе только начиная с
Дидро. До него существовали диалоги, но не было романа.
После Бальзака роман уже не имеет ничего общего с тем,
что наши отцы понимали под этим словом. Современный роман
создается по документам, рассказанным автору или наблюден
ным им в действительности, так же как история создается по
написанным документам.
Историки — это те, кто рассказывает о прошлом, рома
нисты — те, кто рассказывает о настоящем. < . . . >
25 октября.
< . . . > Все эти дни — скука, уныние на душе, разочарование
в вещах и людях, болезненное отвращение к жизни, депрессия
воли и мысли.
После того как закончишь книгу, всегда бывает словно
убыль, словно отлив способности активно мыслить и дей
ствовать. Чувствуешь себя так, как будто исторг из себя
некую часть своей души, своего мозга. Это, вероятно, похоже
на слабость, упадок сил, какие женщина ощущает после
родов.
И потом, чем дальше, тем невыносимее кажется нам плос
кая и тошнотворная жизнь. Дурацкие неприятности с правиль
ной последовательностью, с мещанской тупостью сменяют в ней
479
друг друга, и даже горести, даже оскорбления не приносят нам
ничего непредвиденного. День за днем, с утра до вечера, прохо
дит без всяких неожиданностей, без всяких приключений. Воз
никает вопрос: зачем мы продолжаем существовать и зачем ну
жен завтрашний день?
Все оскорбляет нас, все действует нам на нервы: наша
эпоха, наши друзья, все, что мы читаем, все, что мы слышим.
В средние века было общество шутов, нам же кажется, что мы
живем в обществе простофиль и подписчиков на газеты и жур
налы. Голова у нас гудит от шума, производимого успехами
глупцов. И повсюду успех опускается до уровня, где все низ
менно. Развлечь нас могла бы только какая-нибудь несусветная
катавасия, такая, чтобы весь мир несколько дней плясал вниз
головой.
При этом мы совершенно ясно видим неблагодарность на
шей отвратительной и обожаемой профессии — литературы, ко
торая мучит нас, словно любовница, способная отдаваться слу
гам; мы сознаем, что выбиваемся из сил, что, стараясь выразить
словами свое самое сокровенное, мы можем надеяться только
на оскорбления вместо награды; вчера «Деба» как обухом уда
рили по нашей «Рене Мопрен», и чем же? «Приданым Сюзет-
ты» Фьеве; * мы испытываем горечь оттого, что нас не только
не признают, но даже не отличают от первого встречного, от
карманника, который слямзил наши мысли, наш стиль, наши
книги.
А ко всему еще тело у нас ощущает такую же усталость и
такое же отвращение, как и дух. Нас мучит тошнота, безволие,
утомление. И так одолевает тоска, что один из нас в конце кон
цов ложится спать, а другой принимает слабительное.
27 октября.
Я отдыхал в книжной лавке Франса, как вдруг вошел щуп
лый молодой человек, с изможденным лицом, с мелкими рез
кими чертами, одетый в рабочую блузу, с каскеткой на голове.
Он требует «Процесс Бабефа». Франс осведомляется, не пришел
ли он по поручению какого-нибудь книготорговца. «Я не по
сыльный», — отвечает он сухо. По его блузе вьется золотая це
почка. В зубах пенковая трубка ценой в тридцать франков. Он
плюет прямо на пол, направо и налево. Говорит, отчеканивая
слова, надменным тоном: ему надо прочесть Бабефа, чтобы по-
натореть.
«Еще один бабувист! — говорит Франс, когда он выходит. —
480
В последнее время опять стали спрашивать Бабефа, как в ты
сяча восемьсот сорок седьмом».
Мне тоже этот скверный человечек показался будущим, ре
волюцией. Писания Бабефа в библиотеке двадцатилетнего рабо
чего — это очень похоже на Июньское ружье, запрятанное в со
ломенный тюфяк! Что ж! Отныне и впредь народ заменит
потопы! < . . . >
29 октября, Аньер-на-Уазе.
< . . . > Ни добродетель, ни честь, ни порядочность не могут
помешать женщине оставаться женщиной, иметь капризы, сла
бости своего пола.
Мы не знаем истории тех веков, о которых не написаны
романы. <...>
30 октября.
Почитал немного «Обермана»: * это книга, в которой идет
мокрый снег.
Вот один из современных типов. Это сын г-жи Массон, ма
чехи Эдуарда. Ему шестнадцать — семнадцать лет. Он либе
рал. Он говорит: «Ну что ж, это правда! Я республиканец». Он
терпеть не может всякое выражение энтузиазма: это, мол, рабо
лепие. Он говорит: «Не для того мы совершили революцию
1789 года, чтобы...» Преподавателем его был Дешанель. Он на
бит плохо переваренными изречениями газеты «Сьекль». Он
блюет тирадами Журдана. Отдал свое сердце рабочим в распро
страняется о добродетелях тряпичников, противопоставляя эти
добродетели порокам богатых классов. Учит своего четырехлет
него племянника «Марсельезе» и «Песни выступления» *.
Мы осмотрели вместе с ним Руайомонское аббатство, которое
облаты * недавно выкупили, — он назвал их лежебоками. Он ска
зал: «Иезуиты...», говорил о религиозном фанатизме. Спросил,
не лучше ли вместо церкви построить поселок для рабочих,
раздавать людям хороший суп. Искал скелеты жертв духовен
ства. Сказал: «Правильно сделали, что гильотинировали Людо
вика XVI». Словом, он революционер, утилитарист.
Я забыл сказать, что его отец, который был адвокатом, по
гиб в июне на баррикадах, сражаясь, конечно, на стороне по
рядка и адвокатов.
И самое некрасивое во всем этом, что его идеи, вспышки,
иллюзии молодости — все это совсем не наивно. У него план: он
31 Э. и Ж. де Гонкур, т. 1
481
хочет стать депутатом. Просто страшно. Кажется, я вижу Фран
цию недалекого будущего, кишащую детьми, которые уже в
седьмом классе думают о своих избирателях. Обращение к изби
рателям они начнут писать тогда, когда у них станут прорезы
ваться зубы! <...>
В ветвях каштанов лиловая тень, на которой, словно мазки
акварелью, светясь, выделяются несколько сотен листьев. Кое-
где отдельные листья, качаясь на концах ветвей, поворачи
ваются при малейшем ветерке, как будто подвешенные на
паутинке. Горизонт: туман и неумолчное карканье ворон, про
низывающее весь пейзаж своей печалью. В лиловой дымке —
гамма золотистых оттенков, от соломенно-желтого до рыже-
вато-золотого; основной цвет осени — цвет золотистого вино